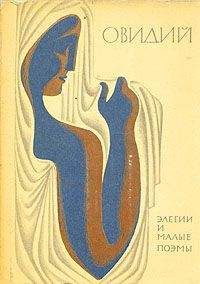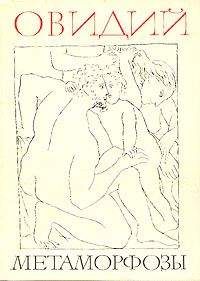Случай сгубил ли меня иль богов разгневанных воля,
Иль при рожденье ко мне Парка сурова была,
15 Должен ты был все равно своей божественной силой
Помощь поэту подать, чтущему свято твой плющ,
Или же что изрекут над судьбою властные сестры,
То недоступно уже воле богов остальных?
Сам по заслугам ты был вознесен к твердыням эфира,
20 Но и тебе этот путь стоил немалых трудов.
В городе ты не остался родном, но в край заснеженный
К марсолюбивым проник гетам, к стримокским струям,
Через Персиду прошел, через Ганг широкотекущий,
Вплоть до рек, что поят смуглый индийцев народ.
25 Дважды такое тебе, рожденному дважды, судили
Парки, которые нам нить роковую прядут.
Вот и меня, коль не грех себя уподобить бессмертным,
Жребий железный гнетет и отягчает мне жизнь.
Пал я не легче, чем тот полководец хвастливый, который
30 Был Громовержца огнем сброшен с фиванской стены.[590]
Ты, услыхав, что певец повержен молнией быстрой,
Мог бы его пожалеть, вспомнив Семелы судьбу,
Мог бы сказать, оглядев вкруг твоей святыни поэтов:
«Что-то меж наших жрецов недостает одного».
35 Добрый Либер, спаси — и пусть лоза отягчает
Вязы, пусть будет гроздь пьяного сока полна,
Пусть под немолчный удар тимпана вслед за тобою
Вместе с вакханками мчит резвый сатиров народ,
Пусть тяжелей придавит земля останки Ликурга,
40 Пусть и за гробом Пенфей кару несет поделом,
Пусть мерцает вовек и все затмевает созвездья
В небе горящий венец критской супруги твоей.[591]
К нам, прекрасный, сойди, облегчи невзгоды и беды,
Вспомни о том, что всегда был я в числе твоих слуг!
45 И, если между собой в общенье боги, — попробуй
Волей своей изменить Цезаря волю, о Вакх!
Также и вы, о трудов сотоварищи наших, поэты,
Благочестиво подняв чаши, молитесь за нас!
Пусть из вас хоть один, назвавши имя Назона,
50 Слезы смешает с вином, кубок поставит на стол,
Ваши ряды оглядит, о ссыльном вспомнит и скажет:
«Где он, тот, без кого хор наш неполон, — Назон?»
Сделайте так, коль от вас заслужил я любви добротою,
Если мой суд не бывал вашим в обиду стихам,
55 Если, должную дань воздавая творениям древних,
Я не ниже ценил Музу новейших времен.
Пусть, если можно, всегда среди вас мое имя пребудет, —
И да поможет вам всем песни создать Аполлон!
Перед тобою письмо, из мест пришедшее дальних,
Области, где широко в море вливается Истр.
Если приятно живешь и при этом в добром здоровье,
Значит, и в жизни моей все-таки радости есть.
5 Если же ты про меня, как обычно, спросишь, мой милый, —
Так догадаешься сам, если я даже смолчу.
Я несчастлив, вот весь и отчет о моих злоключеньях.
То же случится с любым, вызвавшим Цезаря гнев.
Что за народ проживает в краю Томитанском, какие
10 Нравы людские кругом, верно, захочешь узнать.
Хоть в населенье страны перемешаны греки и геты,
Незамиренные все ж геты приметней в быту.
Много сарматского здесь и гетского люда увидишь, —
Знай по просторам степным скачут туда и сюда.
15 Нет среди них никого, кто с собой не имел бы колчана,
Лука и стрел с острием, смоченным ядом змеи.
Голос свиреп, угрюмо лицо, — настоящие Марсы!
Ни бороды, ни волос не подстригает рука.
Долго ли рану нанесть? Постоянно их нож наготове, —
20 Сбоку привесив, ножи каждый тут носит дикарь.
Вот где поэт твой живет, об утехах любви позабывший,
Вот что он видит, мой друг, вот что он слышит, увы!
Пусть обитает он здесь, но пусть не до смертного часа,
Пусть не витает и тень в этих проклятых местах!
25 Пишешь, мой друг, что у вас исполняют при полных театрах
Пляски под песни мои и аплодируют им.
Я, как известно тебе, никогда не писал для театра,
К рукоплесканьям толпы Муза моя не рвалась.
Все же отрадно, что там позабыть об изгнаннике вовсе
30 Что-то мешает и с уст имя слетает мое.
Вспомню, сколько мне бед принесли злополучные песни, —
Их и самих Пиэрид я проклинаю порой;
Лишь прокляну — и пойму, что жить без них я не в силах,
И за стрелою бегу, красной от крови моей.
35 Так от эвбейских пучин пострадавшие только что греки
Смело решаются плыть по кафарейским волнам.
Не для похвал я пишу, трудясь по ночам, не для долгой
Славы, — полезней теперь имя негромкое мне.
Дух укрепляю трудом, от своих отвлекаюсь страданий
40 И треволненья свои в слово пытаюсь облечь.
Что же мне делать еще одинокому в этой пустыне?
Что же еще среди мук мне облегчение даст?
Как посмотрю я вокруг — унылая местность, навряд ли
В мире найдется еще столь же безрадостный край.
45 А на людей погляжу — людьми назовешь их едва ли.
Злобны все, как один, зверствуют хуже волков.
Им не страшен закон, справедливость попрало насилье,
И правосудье легло молча под воинский меч.
В стужу им мало тепла от просторных штанин и овчины,
50 Страшные лица у них волосом сплошь заросли.
Лишь кое-кто сохранил остатки греческой речи.
Но одичал ее звук в варварских гетских устах.
Ни человека здесь нет, кто бы мог передать по-латыни
Наипростейшую мысль в наипростейших словах.
55 Сам я, римский поэт, нередко — простите, о Музы! —
Употреблять принужден здешний сарматский язык.
Совестно, все ж признаюсь: по причине долгой отвычки
Слов латинских порой сам отыскать не могу.
Верно, и в книжке моей оборотов немало порочных,
60 Но отвечает за них не человек, а страна.
Но чтобы я, говоря, Авзонии речь не утратил,
Чтобы для звуков родных не онемел мой язык,
Сам с собой говорю, из забвенья слова извлекаю,
Вновь повторяю и вновь этот зловещий урок.
65 Так я влачу свою жизнь, развлекаю унылую душу,
Так отрешаю себя от созерцания бед.
В песнях стараюсь найти забвение бедствий, и если
Этого труд мой достиг, то и довольно с меня.
Ты советуешь мне развеять печаль стихотворством,
Чтобы постыдная лень дух не могла одолеть.
Трудно исполнить совет, ведь стихи — забава счастливых.
Мир и душевный покой нежным стихам подавай.
5 Гонят мою судьбу порывы враждебного ветра,
Долю, горше моей, трудно представить себе.
Ты бы хотел, чтоб Приам танцевал на сыновних могилах,
Чтобы Ниоба, смеясь, пела над прахом детей?
Думаешь, мне ничего не стоит от скорби отвлечься,
10 Мне, осужденному жить в ссылке у гетов тупых?
Даже если мой дух укрепить недюжинной силой
(Преданный казни мудрец силой такой обладал),[592]
Пал бы ум все равно, испытав такое крушенье;
Силы лишен человек вынести гнев божества.
15 Старец, кого мудрецом назвал дельфийский оракул,[593]
Вряд ли смог бы писать, будь он на месте моем.
Если б я мог забыть отчизну и лица родные,
Если б я вытравить мог горечь утрат из ума,
Даже тогда бы не дал мне страх стихам предаваться:
20 Всюду, куда ни пойди, рыщет бесчисленный враг.
Кроме того, мой ум, изъеденный ржавчиной долгой,
Смолк и едва ли теперь годен для новых трудов.