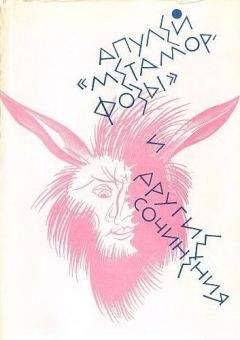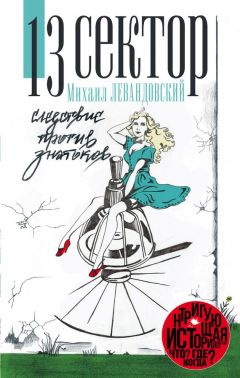99. Так вот, я призываю в свидетели тебя, Клавдий Максим, вас, члены совета, и даже вас, что вместе со мною стоите перед трибуналом [352]: вина за его испорченность и беспутство должна лечь вот на этого дядюшку и на того кандидата в тести; я же отныне буду считать удачей для себя, что подобный пасынок сбросит с плеч ярмо моего попечения и что впредь мне не придется испрашивать для него прощения у его же матери. Да, потому что когда Пудентилла совсем недавно, после смерти Понтиана, захворала и стала писать завещание (чуть было не забыл об этом случае!), я долго боролся с ней, чтобы за все эти возмутительные и несправедливые оскорбления она не лишила сына наследства. Я настоятельно просил ее уничтожить чрезвычайно-суровое завещание, которое – клянусь богом! – было уже написано. В конце концов, я стал угрожать, что разойдусь с ней, если не добьюсь своего. В то же время я убеждал ее оказать мне эту услугу, великодушием победить дурного сына и окончательно избавить меня от всего, что могло навлечь на меня ненависть. И я не отступился, пока она не сделала того, что я хотел. Жаль, что я избавил Эмилиана от тревоги по этому поводу, сообщив ему столь неожиданную новость. Взгляни, прошу тебя, Максим, как он вдруг остолбенел, услышав мои слова, как опустил глаза в землю. Еще бы! ведь он ждал совсем другого, и не без оснований: он знал, что Пудентилла сыта по горло оскорблениями сына, что моя преданность привязала ее ко мне. Что касается меня самого, то и тут у него были поводы для опасений: любой человек, будь он даже, совсем как я, безразличен к вопросам наследства, все же не отказался бы отомстить до такой степени неучтивому пасынку. Именно это беспокойство в первую очередь и было причиной их обвинения против меня; по свойственной им жадности они решили, что все наследство оставлено мне, но ошиблись. Впредь я освобождаю вас от этого страха, потому что ни возможность получить наследство, ни возможность отомстить не смогли изменить моего образа мыслей. Я, отчим, защищал скверного пасынка от разгневанной матери, как защищал бы отец самого любимого сына от мачехи, и счел себя удовлетворенным лишь тогда, когда сдержал необыкновенную щедрость ко мне моей доброй жены – пожалуй, даже в большей мере, чем следовало.
100. Дай-ка сюда это завещание, составленное матерью в то время, когда сын был уже ее врагом. Я, грабитель, как они меня называют, не переставая ее упрашивать, диктовал его слово за словом. Прикажи распечатать эти таблички, Максим: ты установишь, что наследником назначен сын, а мне завещана какая-то безделица, просто в знак уважения, на тот случай, чтобы в завещании жены, если бы с ней приключилось нечто обычное для человека [353], не отсутствовало имя мужа. Возьми его, это завещание твоей матери – в нем-то как раз и обойдены законные наследники. Разве я не прав? Ведь в нем Пудентилла мужа, преданного ей как никто на свете, лишила наследства, а сына, враждебного ей как никто на свете, назначила наследником. Более того, даже и не в пользу сына пойдут эти деньги, а на вожделения Эмилиана, на брак, который подстраивает Руфин, на всю эту хмельную компанию твоих паразитов. Возьми, говорю тебе, о, образец для всех сыновей, и, отложив на минутку в сторону любовное письмо матери, прочти-ка лучше завещание. Если она что-нибудь и написала как будто во власти безумия, то ты найдешь это именно здесь, и немедленно, в самом начале: «Пусть мой сын Сициний Пудент будет моим наследником». Да, признаюсь, всякий, кто прочтет эти слова, найдет их безумными. Твой наследник – это тот сын, что, наняв шайку самых отъявленных молодых негодяев, хотел в самый момент похорон своего брата выгнать тебя из дому, который ты же ему и подарила? Что был расстроен и возмущен, узнав, что брат оставил тебя его сонаследницей? Что тут же бросил тебя одну с твоими скорбями и печалями и из твоих материнских объятий сбежал к Руфину и Эмилиану? Что затем сам нанес тебе множество оскорблений словом, а с помощью дяди – и делом? Что трепал твое имя по судам? Что пытался, ссылаясь на твои же письма, публично опозорить тебя? Что обвинил в уголовном преступлении твоего мужа, которого ты избрала и которого – в чем он же сам упрекал тебя – любишь до безумия. Открой, прошу тебя, доблестный юноша, открой завещание, таким путем ты легче всего докажешь, что твоя мать не в своем уме.
101. Что же ты теперь возражаешь и отказываешься, когда ты уже избавился от беспокойства по поводу материнского наследства? Ну, ладно… Так или иначе, Максим, я оставляю эти таблички здесь, прямо у твоих ног, и впредь, заверяю тебя, вовсе не стану интересоваться тем, что пишет Пудентилла в своем завещании. В будущем пусть уж он, как ему будет угодно, сам упрашивает свою мать, а собственными просьбами за него я сыт по горло. Пусть уж он сам, как человек самостоятельный и взрослый, диктует по адресу своей матери письма пооскорбительней, а потом пусть сам смягчает ее гнев: кто умел в суде говорить, сумеет и уговорить [354]. А с меня сейчас вполне достаточно, если я не только опроверг полностью все предъявленные мне обвинения, но даже вырвал и выкорчевал корень этого процесса, а именно – ненависть из-за наследства.
Наконец, чтобы не обойти молчанием ничего, я разобью, прежде чем кончить речь, еще одно ложное обвинение. Вы утверждали, будто я, взяв у жены большую сумму, купил на свое имя превосходное поместие. А я утверждаю, что речь идет о крохотном именьице ценою в шестьдесят тысяч ассов, да и купил-то его не я, а Пудентилла на свое собственное имя; имя Пудентиллы стоит в купчей, от имени Пудентиллы уплатили налог за этот клочок земли. Здесь присутствует государственный квестор [355], которому были внесены деньги, Корвиний Целер, почтеннейший человек. Здесь же находится и опекун Пудентиллы [356], подтвердивший законность покупки, человек редкого авторитета и благочестия, имя которого я должен назвать с чувством глубочайшего уважения, – это Кассий Лонгин. Спроси его, Максим, чью покупку он удостоверял и за какую ничтожную цену эта богатая женщина купила себе клочок земли.
[Свидетельские показания опекуна Кассия Лонгина и квестора Корвиния Клемента] [357].
Обстоит ли дело так, как я утверждал? Записано ли хоть где-нибудь в купчей мое имя? Разве сама цена поместия вызывает зависть? Разве, наконец, даже эта сумма досталась мне?
102. Так что же, Эмилиан, остается, на твой взгляд, еще не опровергнутым? Ты обнаружил, какую выгоду я получил от занятий магией? Для чего волшебными зельями совратил Пудентиллу? На какую прибыль при этом рассчитывал? Для того, чтобы она назначила Mfte приданое поскромнее, а не побольше? Да, превосходные заклинания! Или чтобы она дала обязательство вернуть это приданое своим сыновьям, а не оставила его мне? Ну, что еще можно прибавить к такой магии? Или чтобы она, по моему же совету, подарила сыновьям большую часть своего имущества (хотя до того, как вышла за меня замуж, никогда не делала им таких щедрых подарков), а мне чтоб не уделила ничего? Какой опасный маг! – не вернее ли сказать: сколько напрасных благ? [358] Или для того, чтобы в завещании, которое она писала в гневе на сына, она назвала наследником сына, хоть и была раздражена против него, а не меня, хоть и была привязана ко мне? Действительно, мне пришлось пустить в ход множество заклинаний, и немалых трудов мне стоило этого добиться.
Представьте себе, что вы ведете дело не перед Клавдием Максимом, человеком справедливым и неизменным блюстителем правосудия; поставьте на его место какого-нибудь другого судью, несправедливого и жестокого, благосклонно внимающего обвинениям, жаждущего осудить обвиняемого. Дайте же ему тропинку, по которой он мог бы пойти, предоставьте ему хоть намек на справедливый повод вынести приговор в вашу пользу. Сочините, в конце концов, что-нибудь, придумайте, что отвечать, если бы он задал вам те же вопросы, что и я. И так как всякому покушению обязательно должна предшествовать хоть какая-нибудь причина, то отвечайте, вы, утверждающие, что Апулей со своими магическими приманками напал на душу Пудентиллы: чего он от нее хотел, почему так поступил? Пленился ее красотой? Нет, – отвечаете вы. Желал ее богатства, по крайней мере? Нет, – отвечает брачная запись; нет, – отвечает дарственная запись; нет, – отвечает завещание. Все эти документы показывают, что он вовсе не стремился, обуреваемый жадностью, воспользоваться щедростью своей жены, но, напротив, резко отверг эту щедрость. Так какая ж еще была причина? Что же вы онемели, что молчите? Где это грозное начало вашей жалобы, составленное от имени моего пасынка: «Я решил, Максим, господин мой, привлечь его к твоему суду»?
103. Что же ты не прибавишь еще: «привлечь к суду моего учителя, моего отчима, моего заступника»?… Но что написано дальше? «Я обвиняю его в преступлениях необычайно многочисленных и совершенно очевидных». Подай-ка сюда хоть одно из этих «необычайно многочисленных», подай сюда хотя бы одно сомнительное или вовсе не поддающееся объяснению действие из этих «совершенно очевидных преступлений»! Впрочем, я отвечу на каждое из ваших обвинений не более чем двумя словами. Считай! «Чистишь зубы» – прости за чистоплотность. «Смотришься в зеркала» – обязанность философа. «Пишешь стихи» – это разрешено. «Исследуешь рыб» – Аристотель предписывает. «Освящаешь дерево» – Платон советует. «Женишься» – законы предписывают. «Она старше тебя» – нередкий случай. «Ты гнался за наживой» – возьми контракт, вспомни дарственную, прочти завещание… Если все это я достаточно опроверг; если рассеял всю клевету; если после всех обвинений и даже после всей этой брани я все так же далек от всякой вины; если я ни в чем не уронил достоинства философии, которое для меня дороже собственного спасения; если, напротив, я во всем поддержал это достоинство всеми «семью перьями» [359]; если дело обстоит так, как я сказал, то я могу спокойно и почтительно ожидать твоего суждения, вместо того чтобы опасаться осуждения [360]. Потому что я считаю менее тяжелым и страшным для себя подвергнуться осуждению перед судом проконсула, чем выслушать хотя бы малейшее порицание от человека столь справедливого и столь безупречного.