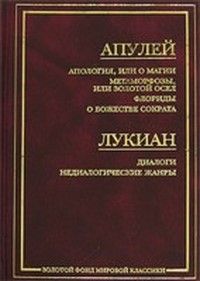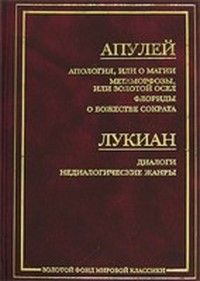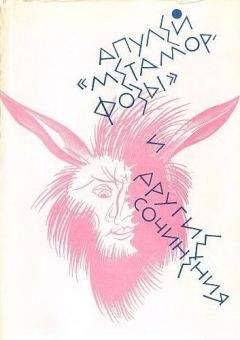Отношение самого Апулея к вере в богов довольно загадочно: с одной стороны, он уже в «Апологии» говорит о своей религиозности, а XI книга «Метаморфоз» заключает в себе описание явления богини из моря и лирические гимны к ней, полные подлинного религиозного пафоса, резко отличающиеся от равнодушной иронии обычного повествования; в романе не раз идет речь о предсказаниях, чудесах, колдовстве; и если в рассказах о ведьмах, которые погубили некоего Сократа, вложив ему вместо сердца губку, и о колдуньях, которые отрезали нос и уши человеку, сторожившему покойника, звучит ирония, то в новелле о трех юношах, вплетенной в основное действие, страшные предзнаменования, предвещавшие отцу гибель всех трех сыновей, передаются Апулеем без всякой насмешки. Тем не менее в полной искренности Апулея даже по отношению к избранному им культу Изиды и Озириса можно сомневаться: пафос первых глав XI книги сменяется в ее конце (гл. 26–30) крайне двусмысленным рассказом о том, как жрецы египетских божеств заставили его, в лице героя его романа, проходить трижды обряд посвящения, каждый раз вытягивая из него немало денег; взамен этого «Озирис в собственном своем божественном виде» доставил ему, как судебному оратору, хорошую клиентуру в Риме и даже включил его в коллегию своих жрецов, но ему пришлось обрить голову, как было принято у египтян. Если вспомнить, что в своем «гимне красоте волос» (II, 8–9) Апулей говорит, что даже Венера «если плешива будет, даже Вулкану своему понравиться не сможет», то последние слова романа (XI, 30) «теперь я хожу, ничем не осеняя и не покрывая своей плешивости, радостно смотря в лица встречных» звучат явной иронией и над культом Изиды, и над самим собой.
Чем больше вчитываться в текст «Метаморфоз», тем эти ноты пародии, — не серьезной, продуманной, горькой сатиры, как у Лукиана, а безобидной пародии и даже буффонады — звучат все яснее. Артистически пользуясь всеми средствами риторики, непрерывно играя всеми ее приемами и фигурами, Апулей особенно искусно умеет пародировать ее блестящие, но бессодержательные фокусы: такова, например, его длинная патетическая тирада о несправедливых судьях (X, 33) (ее декламирует осел сам себе по поводу театрального зрелища, изображающего суд Париса), о мощи любви (VIII, 2), вышеупомянутая «похвала волосам». Апулей пародирует и ссылки на мифы и на веру в мощь звезд; то он сопоставляет миф о полете Пегаса с прыжками испуганного осла: «может быть и пресловутый Пегас от страха сделался летучим… и, взлетая до самого неба, на самом деле… уклонялся от укусов огненосной Химеры» (VIII, 16); то он иронизирует над мифом о замене Ифи-гении ланью (VIII, 26); то он заставляет оценщика осла говорить о гороскопе, составленном ученым астрологом для этого осла. Сцены на Олимпе в сказке об Амуре и Психее тоже пародируют гомеровский совет богов, внося в него современные черты: Юпитер жалуется на то, что Амур заставлял его не раз нарушать «Юлиев закон», начинает свою речь к богам с формулы обращения к римским сенаторам и упрекает Венеру в желании молодиться.
Но наиболее блестящие пародии на риторические декламации Апулей дает в речах действующих лиц, особенно в речах разбойников: «Фразилеон, честь и украшение шайки нашей, потерял свою жизнь, достойную бессмертия… Так потерян был для нас Фразилеон, но не потерян для славы» (IV, 21)… «Тут мы, почтив мужество великодушного вождя нашего, закутали старательно останки его тела полотняным плащом и предали на сокрытие морю. Ныне покоится Ламах наш, погребенный всей стихиею» (IV, II). Пародический характер речи подчеркивается еще и тем, что в нее введена явная несообразность: грабеж происходил в Фивах, где моря нет. Такой же пародией на «милостивый» судебный приговор является речь разбойника, предлагавшего не просто казнить пленную девушку за попытку к бегству, а зашить ее живой в брюхо убитого осла (VI, 31–32): «даруем же девице жизнь, но такую, какой она заслуживает», — патетически говорит он. Речи Тлеполема, жениха пленницы, выдающего себя за знаменитого разбойника и становящегося во главе шайки, полны пышных тирад (VII, 5 — 10): «Привет вам, клиенты бога сильнейшего, Марса, ставшие для меня уже верными соратниками… я отпрыск отца Ферона,… вспоенный человеческой кровью, воспитанный на лоне шайки, наследник и соперник отцовской доблести… каменное это ваше жилище я превращу в золотое»; и сейчас же за этими торжественными фразами следует их антитеза в низком стиле: «я нисколько не посрамил ни отцовской славы, ни своей доблести… хотя и пришлось натерпеться мне страху, видя прямо перед собою убийственные мечи, все же, скрывшись обманным образом под чужой одеждой, я сумел сколотить себе деньжонок на дорогу»; или «я прошу вас верить, что побуждает меня лишь забота о вашей пользе… Ведь я полагаю, что для разбойников, — для тех, по крайней мере, кто ясно понимает свое дело, — выше всего должна стоять прибыль, даже выше, чем желание мести, осуществление которой часто связано с убытком». Даже для нас, не столь искушенных в тонкостях риторики, как современники Апулея, пародический характер этих «надгробных речей» и «суазорий» бросается в глаза; можно себе представить, какой успех они должны были иметь у тех, кто имел перед собой десятки пародируемых Апулеем образцов.
История, погубившая так много великих произведений античности, была милостива к Апулею, сохранив не только его философские трактаты, не имеющие большого значения, но и два его интереснейших сочинения, «Апологию» и «Метаморфозы», на многие века. «Золотого осла» читали даже церковные деятели, как, например, сохранивший для нас это название романа Августин. Апулей не только благополучно пережил враждебное языческим сказкам средневековье, но его повесть об Амуре и Психее была истолкована Фульгенцием (в V в.) в религиозно-мистическом духе, как святая любовь души к божеству. Уже в раннем Возрождении его эротические новеллы были использованы Боккаччо в «Декамероне»; в XVII в. к Амуру и Психее вернулся Лафонтен, в XVIII в. Богданович в своей поэме «Душенька». Изображения Амура и Психеи в живописи и скульптуре едва ли можно пересчитать. Первым русским переводом «Золотого осла», сделанным Е. Костровым и напечатанным в 1780 г., в типографии Новикова, зачитывались сотни людей. Можно надеяться, что и наш читатель откликнется на слова Апулея в 1-й главе его романа: «Внимай, читатель, будешь доволен».
M. E. Грабарь-Пассек
О языке и стиле Апулея
Вопрос о языке Апулея, по-видимому, уже перестал быть спорным. Вероятно, каждый согласится сейчас, что это латинский язык II в. н. э., тот же самый латинский язык, на котором писали Светоний, Фронтон, Авл Геллий, а не особый африканский диалект латинского языка (как доказывали некоторые ученые XIX в.). Признавая существование африканской латыни, как особого диалекта народного разговорного языка, современная наука считает, что влияние этого диалекта на язык произведений Апулея крайне незначительно и что характерные особенности, отличающие Апулея и других писателей африканского происхождения, носят в огромном большинстве случаев стилистический характер. Стиль этот (его часто называют tumor Africus — «африканская напыщенность») есть одно из частных проявлений так называемой «второй софистики» — литературного движения той эпохи, захватившего и греческую и римскую литературы и стремившегося к созданию нового стиля. Вторая софистика эклектически смешала принципы двух основных греческих стилистических направлений прошлого — азианизма, тяготевшего к пышной, блестящей форме (зачастую лишенной содержания) и всевозможным новшествам, и аттикизма, ориентировавшегося на строгий и скупой, уже ставший в какой-то мере архаическим язык классиков аттической прозы. Впрочем, следует отметить, что ведущая роль в этой смеси принадлежит азианизму: он был основой всего здания второй софистики. На римской почве в конце I и начале II в. н. э. процветали эпигоны и азианизма (традиции Сенеки) и аттикизма (школа Фронтона). Апулей учился и у тех и у других, равно как и у великих мастеров прошлого, и с уверенностью, свойственной лишь большому таланту, синтезировал архаистические тенденции Фронтона со смелыми языковыми новшествами, пользовался богатствами поэтического языка и, не задумываясь, черпал из сокровищницы просторечья. И синтез оказался удачным, какой бы анафеме ни предавали «игривый и развратный» стиль Апулея ученые эпохи Возрождения и даже XIX века (так Эд. Норден [361]не сумел удержаться от жестокой брани и сильных эпитетов). Он оказался удачным потому, что живая жизнь II века н, э. била в нем ключом, что маленькому человеку времен империи стала чуждой возвышенная простота лучших писателей прошлого, а для великих под тиранической властью принцепса места не оставалось. И напротив: виртуозность словесного жонглера, его страстность и порывистость, безумная расточительность в средствах языка, даже причудливая пестрота и вульгарный подчас тон — все это импонировало подданным императора. Увлечение Апулеем современников и потомков, дальнейшее развитие и расцвет африканского стиля доказывают это достаточно убедительно. Вот маленький, взятый вне связи с текстом отрывок: «…in fabulis audienda posuit, verum etiam in theatris spectanda proposuit, ubi crimina plura essent, quam nomina…» — «Да, это Апулей», — скажут те, кто читал в оригинале «Метаморфозы» или «Флориды», но они ошибутся: это не Апулей, а его враг и подражатель, крупнейший христианский писатель IV–V вв. Аврелий Августин, епископ Гиппонский (Ер. CXXXVIII, 19).