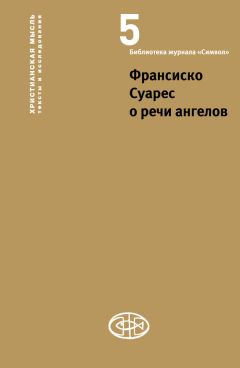71. Дополнительно подтверждается тот же третий тезис. – Наконец, последнее подтверждение уже сказанного – что сопряженная с телом душа в ее нынешнем состоянии по природе не способна к таким интенциональным формам. Апостериорно это доказывается тем, что, если бы воплощенная душа была по природе способна принимать репрезентирующие species без всякого обращения к фантазмам, и они однажды были бы ей даны, она могла бы по природе пользоваться ими. Конечно, Творец и Вседержитель не отказал бы сопряженной с телом душе обладать такими species всегда и по любому случаю, и для любых вещей, ибо Творцу природы подобает наполнять природную вмещающую способность, тем более когда этому способствует природное стремление, а другие, низшие, деятели и принятые от них species ее не наполняют. Однако Бог никаких таких species не напечатлевает, и (добавлю для разъяснения), если рассматривать его исключительно как Творца природы, не может их напечатлевать. Следовательно, это знак того, что ни воплощенная душа не обладает такой природной вмещающей способностью, ни тем более ангел не способен по природе производить такие species в воплощенном интеллекте. Поэтому св. Фома в указанном вопр. «О душе», арт. 18, правильно говорит: «Естественная вмещающая способность воплощенной души предназначена к восприятию вещных форм от материальных вещей». И потому она соединена с телом для принятия таких species, и нет у нее большей естественной способности к постижению, нежели усовершаться этими формами, таким образом определенными. Вот почему, пока душа сопряжена с телом, она по видимости склоняется к низшему, чтобы принимать от него соответствующие species, а в отделенном состоянии она, видимо, стремится к высшему, чтобы принять от него воздействие умопостигаемых форм. Примерно так говорит св. Фома. Из всего этого с полной ясностью следует, что ангелы не могут напечатлеть собственные species своих актов в душе, сопряженной с телом: во-первых, потому, что они не способны производить никакого действия, превышающего природную вмещающую способность принимающего; во-вторых, потому, что все, что принимается, принимается по способу принимающего. И поэтому такая species должна была бы репрезентировать ангельский акт по способу некоей материальной вещи, но ангельский акт не способен произвести подобную species.
72. Отсылка к теме беседы между Богом и ангелами. – Последнее, что было бы желательно сделать, – это разъяснить, каким образом ангелы могут говорить к Богу или Бог к ним. Но первое было разъяснено нами в теме ментальной речи, кн. 1, гл. 5, § 12[37], а именно: чаще всего речь ангелов обращается к Богу как прошение. И здесь не место более подробно рассматривать этот вопрос, ибо через такую речь ангел не принимает знания, а разъясняет уже имеющееся. И самим фактом, что он его имеет, он достаточным образом разъясняет его Богу, так как все открыто очам Божиим; посредством речи к Богу ангел может лишь добавить намерение, или волю, к выполнению некоторого акта ума, чтобы Бог его увидел, как было показано в указанном месте. А вот второй вопрос имеет отношение к разбираемой теме ангельского познания, ибо через речь Бога к ангелам они могут научаться и узнавать нечто новое. Но так как это совершается, скорее всего, через божественное просвещение и откровение, которые принадлежат к порядку благодати, мы обратимся к ним ниже, где будем говорить о данных ангелам дарах благодати и где надлежит также рассмотреть в общем виде вопрос об иллюминации.
Перевод с латинского
Г. Вдовиной.Г. В. Вдовина
Тема ангельской речи в схоластической философии
При сравнении двух опубликованных здесь перевода трех глав из трактата испанского схоластического философа и теолога Франсиско Суареса (1548–1617) «Об ангелах» и статьи проф. Михаэля Эрнста (университет Зальцбурга) «Ангелы в православной религиозной практике и в искусстве» – прежде всего бросается в глаза стилистическое различие. Может сложиться впечатление, что, если для православного верующего ангелы – часть мира высокой духовности, мира литургических песнопений и церковной живописи, эсхатологических откровений и упований, то для католика они оказываются объектами странных беспочвенных умствований, предельно далеких от благоговейного духовного созерцания горнего мира.
Такое впечатление было бы объяснимым, но крайне поверхностным, потому что опиралось бы на некорректное сравнение. То, что говорится об ангелах в Библии и в святоотеческих текстах, составляет общее наследие двух Церквей, и мир ангелов в католическом богословии и церковном искусстве предстает, с точки зрения верующего католика, не менее возвышенным, прекрасным и насыщенным духовно, чем в православии. Иное дело – схоластическая западная философия: сколь бы крепкими и тесными ни были ее связи с теологией откровения, сколь бы служебной по отношению к богословию ни считалась ее роль на разных этапах ее развития, она представляет собой (полу)автономную область и подчиняется общим требованиям и условиям бытия философии как таковой: интеллектуальной деятельности по осмыслению мира и человека. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в схоластической философии ангелы рассматриваются совсем в ином стилистическом ключе, нежели в культовых практиках и в церковном искусстве.
Но как именно рассматривает ангелов схоластическая философия? Что в них привлекает ее, и для каких целей она к ним обращается? Чем ангелы способны заинтересовать схоластическую философию именно как философию? Краткий ответ таков: для развитой схоластической философии ангелы служат идеальными объектами мысленных экспериментов.
Мысленный эксперимент в статусе доброкачественной и законной интеллектуальной процедуры опирался на мощную теологическую поддержку со стороны принципа абсолютного могущества Бога (potentia Dei absoluta). Этот принцип активно разрабатывался в традиционной теологии XIII в. и гласил, что Бог может все, что не заключает в себе логического противоречия. Иначе говоря, Бог способен произвести любую вещь и любое действие, которые логически непротиворечивы, в том числе и те, которые могли бы существовать, но не существуют сейчас или не существовали и не будут существовать никогда, оставаясь чистой возможностью. В теологическом контексте этот принцип способствовал переосмыслению аристотелевского учения о причинности в смысле не-необходимости, то есть контингентности, вторичных причин (в самом деле, Бог может сам, непосредственно, сделать все, что делает через вторичные – природные – причины). В философском же контексте он означал расширение методологических границ, узаконив аргументацию secundum imaginationem (согласно воображению), придав ей легитимность и демонстративную силу. На основании этого принципа анализ любой рассматриваемой проблемы можно было не останавливать на границе физически возможного, но выводить в более широкий контекст логически возможного, то есть – в область мысленного экспериментирования, ставшего универсальным методом средневековой науки вообще[38].
О том, что этот метод не только широко применялся, но и подвергался углубленной рефлексии, свидетельствует корпус трактатов De obligationibus, в совокупности дающих нам теорию и метаметодологию схоластического мысленного эксперимента[39]. Согласно средневековым воззрениям, знание – плод академической процедуры диспута. Знание истины предполагает способность сформулировать тезисы, ответить на возражения, разрешить «сомнения» (dubia) и «затруднения» (difficultates). Суждение об истине, подобно вынесению приговора в суде, должно опираться на выслушивание аргументов противоборствующих сторон, и роль мысленного эксперимента заключалась в том, чтобы поставлять материал для аргументации, содействуя выяснению истины. «Научение тому, как генерировать возражения, сомнения и контрпримеры, – подчеркивает современный исследователь, – было живой кровью средневекового университета, и мысленные эксперименты являются очевидным источником примеров затруднений»[40]. Диспуты-«облигации» служили как раз такими обучающими упражнениями. В мысленном эксперименте трактаты De obligationibus различают две части: комплекс утверждений, описывающих некоторую ситуацию, и описание того, «что происходит» в этой ситуации, причем «происходящее» рассматривается исключительно на логическом уровне. Конкретная процедура диспута выглядит следующим образом. В нем участвуют двое: оппонент и респондент. Оппонент выдвигает некий тезис, совершая действие полагания, positio; его результат именуется casus («случай»), или positum («положенное»), в котором задается ситуация. Респондент принимает positum (ведь если он его не примет, дискутировать будет не о чем), тем самым соглашаясь с начальными условиями задачи. После этого оппонент начинается выдвигать (proponere) тезисы, описывающие «происходящее» в заданной ситуации. Дело респондента – отвечать на каждый тезис согласием, отрицанием или формулировкой «сомнения» относительно его истинности, причем делать это в согласии с правилами. Например, правила предписывают, что утверждение, представляющее собой прямой и непосредственный вывод из positum, должно быть принято, а прямо противоречащее positum – отвергнуто. Основной интерес представляют такие суждения, которые не подлежат непосредственному утверждению или отрицанию, то есть суть impertinentes — «независимые» суждения. Согласно стандартному подходу, с ними полагалось обращаться как с высказываниями о реальном мире: если известно из других источников, что они истинны, соглашаться с ними; если известно, что они ложны, – отрицать. Если же истинность или ложность impertinens заранее не известна, такое суждение должно быть подвергнуто сомнению и квалифицироваться как «dubium» или «difficultas». Техническая задача каждого из участников – поймать другого в логическую ловушку противоречия и тем самым разбить его позицию; но задача диспута в целом – исследовать, «что происходит», если предположить positum, и выяснить истину. Эта методология устного диспута, сложившаяся в практике средневекового университета, была перенесена и в письменные схоластические трактаты, что можно видеть на примере великого множества сохранившихся рукописных, а затем и печатных текстов XIII-сер. XVIII вв.; только здесь автору противостоял уже не один соперник – оппонент или респондент, а вся предшествующая и современная ему традиция. Как нетрудно убедиться, следует ей и Франсиско Суарес в предлагаемом трактате.