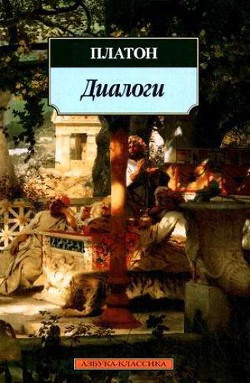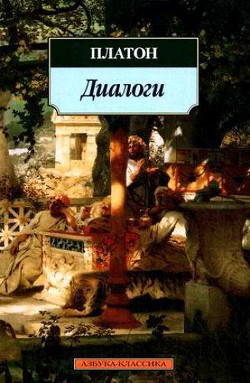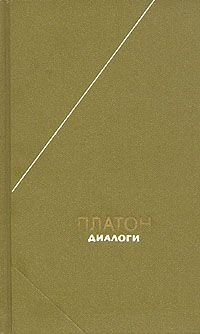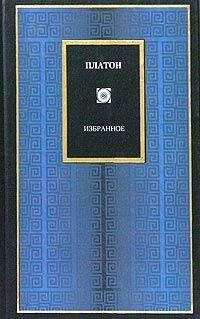Вот как нам надо рассуждать, друг Симмий, если мы говорим о настоящем философе, ибо он будет совершенно уверен, что нигде в ином месте не приобщится к разумению во всей его чистоте. Но когда так, повторяю, разве это не чистейшая бессмыслица, чтобы такой человек боялся смерти?
- Да, полная бессмыслица, клянусь Зевсом, - сказал Симмий. - А если ты увидишь человека, которого близкая смерть огорчает, не свидетельствует ли это с достаточной убедительностью, что он любит не мудрость, а тело? А может, он окажется и любителем богатства, или любителем почестей, или того и другого разом.
- Ты говоришь сущую правду, - сказал Симмий.
- Теперь ответь мне, Симмий: то, что называют мужеством, не свойственно ли в наивысшей степени людям, о которых идет у нас беседа?
- Да, несомненно.
- Ну, а рассудительность - то, что так называет обычно большинство: умение не увлекаться страстями, но относиться к ним сдержанно, с пренебрежением,не свойственна ли она тем и только тем, кто больше всех других пренебрегает телом и живет философией?
- Иначе и быть не может.
- Хорошо, - продолжал Сократ. - Если же ты дашь себе труд задуматься над мужеством и рассудительностью остальных людей, ты обнаружишь нечто несообразное.
- Как так, Сократ?
- Ты ведь знаешь, что все остальные считают смерть великим злом?
- Еще бы!
- И если иные из них - когда решатся ее встретить - мужественно встречают смерть, то не из страха ли перед еще большим злом?
- Правильно.
- Стало быть, все, кроме философов, мужественны от боязни, от страха. Но быть мужественным от робости, от страха - ни с чем не сообразно!
- Да, разумеется.
- Взглянем теперь на людей умеренных. Если иные умеренны, то и тут то же самое: они рассудительны в силу особого рода невоздержности. "Это невозможно!" - скажем мы, а все же примерно так оно и обстоит с туповатой рассудительностью. Те, кому она присуща, воздерживаются от одних удовольствий просто потому, что боятся потерять другие, горячо их желают и целиком находятся в их власти. Хотя невозержностью называют покорность удовольствиям, все же получается, что эти люди, сдаваясь на милость одних удовольствий, побеждают другие. Вот и выходит так, как мы только что сказали: в известном смысле они воздержны именно благодаря невоздержности.
- Похоже, что так.
- Но, милый мой Симмий, если иметь в виду добродетель, разве это правильный обмен - менять удовольствие на удовольствие, огорчение на огорчение, страх на страх, разменивать большее на меньшее, словно монеты? Нет, существует лишь одна правильная монета - разумение, и лишь в обмен на нее должно все отдавать; лишь в этом случае будут неподдельны и мужество, и рассудительность, и справедливость одним словом, подлинная добродетель: она сопряжена с разумением, все равно, сопутствуют ли ей удовольствия, страхи и все иное тому подобное или не сопутствуют. Если же все это отделить от разумения и обменивать друг на друга, как бы не оказалась пустою видимостью такая добродетель, поистине годная лишь для рабов, хилая и подложная. Между тем, истинное - это действительно очищение от всех [страстей], а рассудительность, справедливость, мужество и само разумение - средство такого очищения. И быть может, те, кому мы обязаны учреждением таинств [мистерий], были не так уж просты, но на самом деле еще в древности приоткрыли в намеке, что сошедший в Аид непосвященным будет лежать в грязи, а очистившиеся и принявшие посвящение, отойдя в Аид, поселятся среди богов. Да, ибо, как говорят те, кто сведущ в таинствах, "много тирсоносцев, да мало вакхантов", и "вакханты" здесь, на мой взгляд, не кто иной, как только истинные философы. Одним из них старался стать и я - всю жизнь, всеми силами, ничего не упуская. Верно ли я старался и чего мы достигли, мы узнаем точно, если то будет угодно богу, когда придем в Аид. Ждать осталось недолго, сколько я понимаю.
Вот вам моя защитительная речь, Симмий и Кебет; вот почему я сохраняю спокойствие и веселость: я покидаю и вас, и здешних владык в уверенности, что и там найду добрых владык и друзей, как нашел их здесь. И если вам моя речь показалась более убедительной, чем афинским судьям, это было бы хорошо.
Когда Сократ закончил, заговорил Кебет:
- Вот это - по крайней мере на мой взгляд - сказано прекрасно, кроме одного: то, что ты говорил о душе, вызывает у людей большие сомнения. Они опасаются, что, расставшись с телом, душа уже нигде больше не существует, но гибнет и уничтожается в тот самый день, как человек умирает. Едва расставшись с телом, выйдя из него, она рассеивается, словно дыхание или дым, разлетается, и ее уже решительно больше нет. Разумеется, если бы душа действительно могла где-то собраться сама по себе и вдобавок избавленная от всех зол, которые ты только что перечислил, это было бы, Сократ, источником великой и прекрасной надежды, что слова твои - истина. Но что душа умершего продолжает существовать и обладает известной способностью мыслить, - это, на мой взгляд, требует веских доказательств и обстоятельных разъяснений.
- Верно, Кебет, - согласился Сократ. - Что же нам делать, однако? Не хочешь ли потолковать об этом: может так быть или не может?
- Очень хочу, - сказал Кебет. - Хочу знать, что ты об этом думаешь.
[Четыре доказательства бессмертия души. Аргумент первый: взаимопереход противоположностей]
- Хорошо, - промолвил Сократ. - Мне кажется, что теперь никто, даже комический поэт, не решится утверждать, будто я попусту мелю языком и разглагольствую о вещах, которые меня не касаются. Итак, если не возражаешь, приступим к рассуждению.
Начнем, пожалуй, вот с какого вопроса: что, души скончавшихся находятся в Аиде или же нет? Есть древнее учение - мы его уже вспоминали, - что души, пришедшие отсюда, находятся там и снова возвращаются сюда, возникая из умерших. Если это так, если живые вновь возникают из умерших, то, по-видимому, наши души должны побывать там, в Аиде, не правда ли? Если бы их там не было, они не могли бы и возникнуть; и если бы мы с полною ясностью обнаружили, что живые возникают из мертвых и никак не иначе, это было бы достаточным доказательством нашей правоты. Если же все это не так, поищем иных доводов.