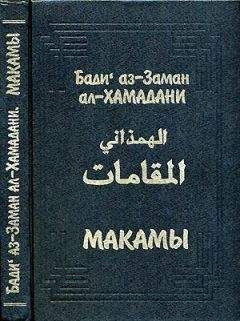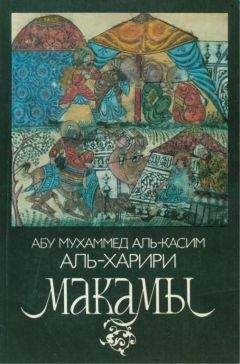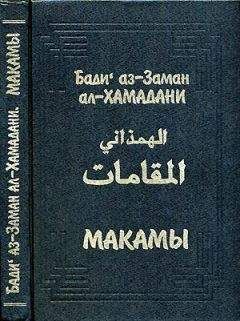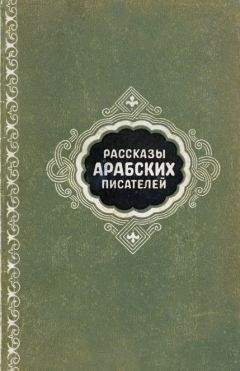Потом он спросил в третий раз:
— А что вы скажете, друзья, о дикой козочке, молоденькой, жирненькой, недждийской, ульвийской, которая плодами арака, шихом, кайсумом и сухою травою вскормлена, холодной водою вспоена, касисом наполнена, кости ее мозгом набиты, брюхо жиром покрыто. Подвесят ее головой вниз над огнем, чтобы она поспела, но не сгорела, подрумянилась, но не пережарилась, а потом надрежут румяную кожу, чтобы виден был белый жир, и подадут ее вам на стол, заваленный лепешками, словно устланный белым коптским полотном или красно-желтыми кухистанскими платьями[129], и по всему столу будут расставлены сосуды с горчицей и другими приправами. А козочка будет истекать потом и соком. Не хотите ли такого угощения, друзья?
Мы ответили:
— Да, Богом клянемся, хотим!
Он откликнулся:
— Клянусь Богом, ваш дядя готов плясать перед этой козочкой!
Тут один из нас подскочил к нему, замахнулся мечом и закричал:
— Мало того, что мы умираем с голоду, так ты еще смеешься над нами!
Тогда дочь старика поднесла нам блюдо, на котором был кусок сухого хлеба, остатки жира и какие-то объедки, и обошлась она с нами почтительно. Мы ушли, ее восхваляя, старика же ругательствами осыпая.
ИБЛИССКАЛ МАКАМА
(тридцать пятая)
Рассказывал нам Иса ибн Хишам. Он сказал:
Потерялось у меня стадо верблюдов, я пошел их искать, углубился в долину, поросшую зеленой травой, — и вот предо мной ручьи, потихоньку текущие, деревья, высоко растущие, зрелые плоды, пестрые цветы, расстеленные ковры, а на одном из них восседает неизвестный мне шейх. Я испугался, как обычно пугаются люди, сталкиваясь с незнакомцем один на один, но он сказал:
— Не бойся, ничего дурного с тобой не случится!
Я приветствовал его, он приказал мне сесть, и я послушался. Он о делах моих расспросил, я ему обо всем сообщил, и он сказал:
— Ты встретил того, кого тебе нужно, считай, что стадо твое обнаружено. А знаешь ли ты стихи каких-нибудь арабских поэтов?
Я ответил «да» и прочел ему кое-что из Имруулкайса и Абида, Тарафы и Лабида[130]. Он выслушал все это равнодушно и сказал:
— Я прочту тебе из своих стихов.
Я согласился, и он стал читать:
Откочевали друзья, веревки дружбы порвав,
Я подчиняться не стал — и оказался один, —
пока не дошел до конца касиды[131].
Я воскликнул:
— О шейх! Это касида Джарира[132], которую даже дети знают и женщины повторяют! Ты услышишь ее и в бедуинском шатре, и при халифском дворе!
Он возразил:
— Не приставай! А помнишь ли ты какие-нибудь стихи Абу Нуваса[133]? Прочти мне!
И я прочел:
Не буду оплакивать кочевье весеннее,
Верблюдов и колышки палатки изношенной!
И что горевать мне над жилищем покинутым —
Ведь сколько уж лет оно любимыми брошено!
О, как пировали мы с друзьями под звездами,
И каждый из них валился, хмелем подкошенный.
Вино подносил нам газеленок крестящийся,
Глазастый, в зуннаре[134], соблазнительно сложенный.
Срывал с его губ слюну, из рук вырывал кувшин —
Как праведник с виду, но к греху расположенный.
Друзья опьяневшие заснули, а я меж них,
Боясь быть поверженным, глядел настороженно.
Но, чтоб усыпить его, храпел я — и вскорости
Дремота к его глазам подкралась непрошенно.
Он лег на постель — ах, слаще трона Билкис[135] она,
Хотя в беспорядке все на ней, все взъерошено.
Не раз возвращался я к нему, а наутро он
От звона церковного проснулся, встревоженный:
«Кто тут?» И ответил я: «Священник пришел к тебе,
Чтоб твой монастырь ему помог, как положено».
Сказал он: «Клянусь, что ты — злодей отвратительный!»
Ответил я: «Нет, ведь зло не мною умножено!»
Услышав эти стихи, шейх развеселился, стал вопить и кричать.
Я сказал:
— Какой ты мерзкий старик! Не знаю, что глупее — то, что ты присвоил стихи Джарира, или то, что ты восхитился этими стихами Абу Нуваса, развратника и бродяги.
Он возразил:
— Не приставай ко мне, иди своей дорогой, а если встретишь на пути человека с маленькой мухобойкой в руках, который в дома захаживает, своей хлопушкой помахивает, восхищаясь ее красотой и гордясь ее бородой, то обратись к нему с такими словами: «Покажи мне скорей, где кит тонкобокий привязан в одном из морей. Известны его приметы: жалит он, словно оса, чалма у него из света, отец его — камень, но не со дна морского, а мать его — тоже рода мужского[136]. Длинный хвост, голова золотая сверкает, имя его — огонь, кто же того не знает? Он одежду, как моль, проедает, все запасы масла уничтожает. Это пьяница, который не напивается, едок, который не наедается, расточитель неудержимый — всех одаряет, кто ни проходит мимо, но его богатство от щедрости не уменьшается, все время он вверх поднимается. Что его радует — для тебя огорчение, что вредит ему — для тебя облегчение».
И продолжал:
— До сих пор я скрывал от тебя свою историю. Мы бы отлично поладили, но раз ты не хочешь, то все обо мне узнай сейчас: ни одного нет поэта, кто живет без помощника от нас. Это я продиктовал Джариру ту касиду, ведь я — шейх Абу Мурра[137].
Говорит Иса ибн Хишам:
Затем он исчез, и я его больше не видел. Я пошел куда глаза глядят и встретил человека с мухобойкой в руках. Я подумал: «Богом клянусь, это мой приятель» — и сказал ему, что услышал от шейха. Он передал мне светильник, указал на темную пещеру в горе и сказал:
— Путь себе освети и в пещеру смело войди.
Я проник туда и нашел там своих верблюдов, вошедших в пещеру с другой стороны, и мы двинулись в обратный путь. И когда мы потихоньку пробирались меж деревьев, вдруг появился Абу-л-Фатх Александриец и приветствовал меня.
Я спросил:
— Горе тебе! Что пригнало тебя сюда?
Он ответил:
— Тупость мирская, скупость людская и несправедливость судьбы.
— О Абу-л-Фатх! Скажи, чего тебе хочется?
— Верблюдицу крепкую ты можешь мне дать и иссохшую ветвь водой напитать?
— Идет!
И он продекламировал:
За того готов я всю жизнь отдать,
Кто подарок свой дал мне выбирать.
Слишком много я попросить посмел —
Он мне дал сполна и не стал пенять.
Не скупился он и кряхтеть не стал
И, раскаявшись, в голове чесать.
Потом я рассказал ему о том шейхе. Тогда Абу-л-Фатх указал на свою чалму и сказал:
— Это — плод его благодеяния.
Я воскликнул:
— О Абу-л-Фатх! Ты просил милостыню у самого Иблиса! Поистине, ты — настоящий сын Сасана!
АРМЯНСКАЯ МАКАМА
(тридцать шестая)
Рассказывал нам Иса ибн Хишам. Он сказал:
Мы возвращались из Армении, закончив торговые дела, и вдруг пустыня нас к детям своим привела. Разбойники остановили наших верблюдов там, где одни лишь страусы бродят, очистили наши тюки, так что вьюки стали для наших верблюдов совсем легки. Нас ремнями крепко связали, животных наших угнали. В руках у злодеев оставались мы целый день, когда же землю укрыла тень, когда ночь распустила свои хвосты и звезды свои веревки протянули к нам с высоты, злодеи покинули нас в пустыне в полном унынии.
А когда заря отодвинула покрывало стыдливости, и ее румянцем был небосвод озарен, и меч утра был из ножен тьмы извлечен, осветило нас солнце, друг на друга похожих — покрытых лишь волосами да собственной кожей. Долго мы по пустыне блуждали, опасности нас окружали, и наконец — о великое благо! — приютил нас город Мерага. Мы смогли там немного отдохнуть и отправились в путь, каждый своей дорогой, но, охваченные тревогой, старались кого-нибудь в попутчики взять, чтобы друг друга защищать.
Со мною отправился юноша, с виду униженный, судьбою обиженный, в ветхой одежде, а звался он Абу-л-Фатх Александриец. Мы решили сначала поискать еды и увидели недалеко от дороги печь, разожженную ветками гады[138], в которой пеклись лепешки. Александриец попросил у кого-то горсть соли, потом подошел к печке и сказал хлебопеку:
— Дай мне поближе подойти, я очень озяб в пути!
Протиснувшись к топке, он сразу стал рассказывать людям о своих невзгодах и бедствиях и об их печальных последствиях, сам же тихонько из-под полы в топку время от времени соль подсыпал, так что огонь от нее трещал и беспокойство у людей вызывал. Наконец хлебопек на него закричал:
— Подбери свой подол, бродяга паршивый, ты испортил нам хлеб своей одеждой грязной и вшивой!
Потом вытащил из печки две крайние лепешки и швырнул на пол. Абу-л-Фатх подобрал лепешки без лишних слов — и был таков.