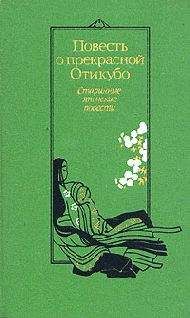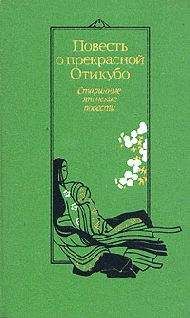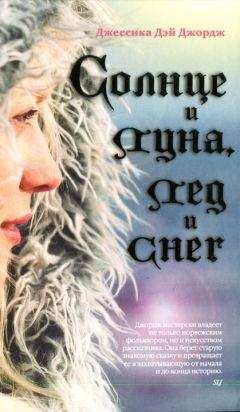Сенагон и Акоги только поглядывали друг на друга, пересмеиваясь:
– Подумать только, когда-то мы трепетали перед этим человеком и не знали, как угодить ему!
Между тем ничего не подозревавший Кагэдзуми начал говорить таким образом:
– Я только что был у вашего почтенного отца и говорил с ним. Неужели бумага на владение домом в самом деле находится у вас? Я думаю, что дело можно будет решить лишь после того, как мы внимательно ознакомимся с нею. Если бы отец мой и все мы, его сыновья, имели бы хоть малейшее основание подозревать, что дворец Сандзедоно принадлежит вам, то этот неприятный спор никогда не возник бы. Но ведь уже два долгих года мы отстраиваем заново этот дворец. За все это время вы ни разу не подали никакого знака – и вдруг, уже накануне нашего переезда, силой пытаетесь нам помешать… Позволю себе выразить сожаление, что вы прибегли к такому далеко не мирному способу разрешения спора.
– Но ведь бумага на дворец Сандзедоно находится в моих руках уже давно. Я слышал, дом принадлежит лишь тому, кто владеет такой бумагой, и никому другому. Поэтому я был спокоен и не находил надобности объявлять всем и каждому, что это мой дом, но, когда вы задумали переехать в него, мне пришлось заявить свои права. Кстати, есть у вас какая-нибудь бумага, подтверждающая, что вы владетели этого дома?
Митиери говорил мягко, спокойным тоном, играя с сидевшим у него на коленях ребенком. Это был мальчик лет трех, удивительно белолицый и красивый.
Кагэдзуми был возмущен и обижен. Так вести себя во время важного разговора! Легкомысленный и бессердечный человек! Но все же он сдержался.
– К сожалению, мы пока не нашли эту бумагу… Быть может, кто-нибудь продал вам ее? Только это одно и остается предположить, потому что никто, кроме нас, не имеет никакого права на этот дом.
– Нет, я не покупал никакой краденой бумаги. Дом достался мне честным образом, и я со своей стороны считаю, что он принадлежит только мне одному. Вот мой совет: признайте справедливость моих слов и примиритесь с тем, что случилось. А отцу вашему, тюнагону, сообщите, что я дам ему возможность самым внимательным образом рассмотреть эту бумагу.
И прекратив разговор, Митиери встал и ушел во внутренние покои с ребенком на руках. Кагэдзуми вернулся к отцу ни с чем, опечаленный.
Отикубо слышала весь разговор от слова до слова.
– Так, значит, они хотели сейчас переехать в Сандзедоно! Подумают еще, что это я преследую их своей злобой. Сколько лет мой отец отстраивал этот дом заново, сколько принял хлопот и расходов, и вдруг в последнюю минуту силой воспрепятствовать его переезду! Как он, должно быть, огорчен! Доставлять горе своим родителям – страшный грех. Мало того, что я не могу заботиться ни об отце, ни о матери, но из-за меня их мучат, преследуют, вот что мне горько! Уж это, наверное, Акоги все придумала…
Сердце Отикубо разрывалось от жалости к своим родным.
– Пусть даже лучшего отца, чем твой, нет во всем поднебесном мире, – сказал ей Митиери, – но какой простак позволит отнять у себя дом? Твоего отца обидели? Верно, но ты сможешь потом теплыми дочерними заботами искупить этот грех. Если ты не хочешь переезжать в Сандзедоно, так я все равно перееду туда один вместе с твоей женской свитой. Раз уж я затеял это дело, то бросить его на полдороге было бы глупо. Ты хочешь подарить дворец Сандзедоно своему отцу? Хорошо, подари после того, как месть моя будет завершена и ты встретишься с ним лицом к лицу.
Отикубо поневоле умолкла.
Вернувшись домой, Кагэдзуми рассказал обо всем тюнагону.
– Дальше настаивать бесполезно. Как ни унизительно для нас, что мы не смогли отстоять паше право на этот дом, но придется от него отступиться. Я говорил с эмон-но нами о таком важном для нас деле, а он в это время держал на коленях хорошенького мальчика, своего сьнка, и играл с ним и мои доводы пропускал мимо ушей. Потом отказал мне наотрез и ушел в дом. Левый министр, его отец, только твердил: «Не знаю ничего. У моего сына бумага на владение домом, значит, он прав». И там я тоже не добился успеха. Почему в свое время мы не взяли себе на хранение эту злосчастную бумагу? Эмон-но ками собирается переехать сегодня же вечером. Приготовления в самом разгаре, только и слышно, каких слуг возьмут с собой, в каких экипажах поедут…
Слушая этот рассказ, тюнагон невзвидел света от огорчения.
– Мать Отикубо отдала на смертном одре эту бумагу своей дочери, а я по беспечности совсем забыл о ней. Подумать только, что из-за этой небрежности мы потеряли такой прекрасный дом! Какие же тут могут быть сомнения – конечно, он купил у кого-то эту бумагу, потому так уверенно и действует. Люди будут над нами смеяться. Если бы я даже пожаловался самому государю, никакого толку не вышло бы, ведь эмон-но ками сейчас в большом фаворе при дворе. Кто нас рассудит, если он выдаст черное за белое? Жаль мне, что я извел столько денег напрасно… Злосчастный я человек, во всем мне неудача, одна беда за другой так и сыплются на мою голову…
Тюнагон грустно задумался, уставив глаза в небо.
Перед тем как переехать в Сандзедоно, Митиери подарил каждой даме из свиты своей жены по новому великолепному наряду. Все они очень обрадовались тому, что за недолгий срок своей службы получили возможность одеться по последней моде.
Тюнагон прислал людей с просьбой вернуть ему хотя бы утварь и вещи, но никого не велено было впускать в ворота. При этом известии Китаноката всплеснула руками от ярости.
– Этот эмон-но ками – наш злейший враг. Он мне всю душу истерзал, проклятый!
Кагэдзуми стал уговаривать ее:
– Успокойтесь, матушка, ведь потерянного не вернешь. Наши люди просили, чтоб им позволили хоть вещи забрать. «Забирайте поскорее», – ответили слуги этого эмон-но ками как будто по-хорошему, а потом вдруг не пустили никого за порог. Нельзя же было нашим людям лезть в драку…
И правда, тюнагону и его семье осталось только одно: всем скопом проклинать обидчика.
Наконец свечерело, наступил час Пса. К дворцу Сандзедоно длинной вереницей подъехало десять экипажей.
Выйдя из экипажа, Митиери увидал, что и в самом деле, как говорил тюнагон, главные покои дворца готовы к прибытию господ. Поставлены ширмы, повешены занавеси, настланы циновки… Митиери понял, что сейчас должны чувствовать тюнагон и его близкие, и ему стало их жаль, но он все же решил довести свою месть до конца.
«Как, должно быть, страдает мой отец!» – думала Отикубо и оставалась безучастной ко всему. Ничто ее не радовало.
Митиери сказал слугам:
– Смотрите не потеряйте ни одной чужой вещи. Я хочу вернуть все в сохранности.
В то время как во дворце Сандзедоно царило веселое И шумное оживление, в доме тюнагона все были полны страха и тревоги.
Наконец пришла весть: «Торжественный переезд состоялся. Сколько там слуг, сколько экипажей!»
«Значит, всему конец. Теперь уж делу не поможешь», – опечалились тюнагон и его близкие.
Но во дворце Сандзедоно никто не думал о них. Там люди беззаботно веселились.
Акоги была полна благодарности к своему хозяину за то, что он так умело осуществил все, о чем она едва смела; мечтать.
***
На другой день Кагэдзуми сам явился в Сандзедоно попросил:
– Пожалуйста, разрешите мне взять имущество моей семьи.
– Мы три дня не позволим дотронуться ни до одной вещи. На четвертый день присылайте за вашим добром. Все будет возвращено в полной сохранности, – ответили ему слуги и не стал, и слушать никаких доводов. В доме тюнагона еще больше встревожились…
А в Сандзедоно три дня подряд не стихала веселая музыка. Праздновали новоселье на самый изысканный новый манер.
В назначенный день рано утром снова появился Кагэдзуми и начал слезно молить:
– Позвольте мне сегодня забрать вещи моей семьи. Мы перевезли сюда все наше имущество, все до мелочи, даже ларчики для женских гребней… Очень трудно обойтись без этих вещей…
Митиери, торжествуя в душе победу, велел наконец возвратить Кагэдзуми все вещи согласно описи.
– Ах, вспомнил! – вдруг воскликнул Митиери. – Где-то была еще старая шкатулка для зеркала. Верните шкатулку вместе с прочими вещами, ведь супруга тюнагона, кажется, считает ее бесценным сокровищем.
Акоги с готовностью отозвалась:
– Как же, как же, шкатулка хранится у меня, – и тотчас же принесла ее. Женщины, еще не видевшие этой шкатулки, дружно засмеялись:
– Ах, до чего же она безобразна!
– Надо приложить к ней записку, – сказал Митиери, подумав, что одна шкатулка сама по себе не произведет должного действия, и попросил Отикубо написать несколько слов.
– Зачем? Если я дам знать о себе в такую тяжкую для моих родных минуту, то причиню им лишнюю боль, – стала отказываться Отикубо.
– И все же напиши, прошу тебя, напиши, – настаивал Митиери, и в конце концов она написала на оборотной стороне дощечки, лежавшей на дне шкатулки, такое стихотворение: