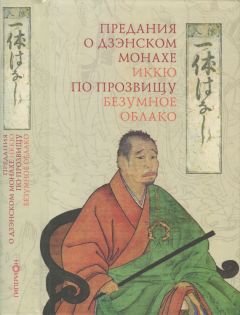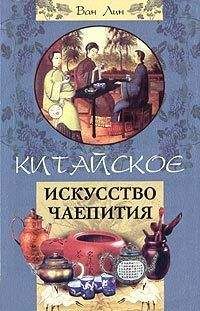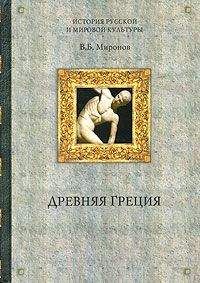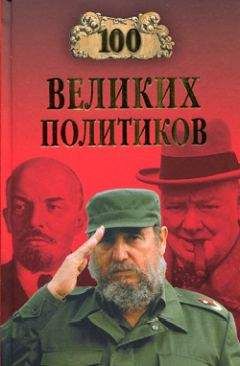— Слушаемся! — отвечали те, подбежали к Иккю, хорошенько его побили и связали. Он сказал:
— Вот это и есть ад!
Управляющий восхитился, тут же спрыгнул с коня, самолично развязал Иккю:
— Благодарю вас за наставление! — поклонился он, посадил Иккю на собственного коня, отвёз к себе домой и не отходил от него с утра до вечера, предлагал ему редкие кушанья и от души угостил его.
— А вот это — самый настоящий рай! — изволил сказать Иккю.
Управляющий подъехал к Иккю и спросил: «Эй, монах, а что ты расскажешь об аде и рае?» Иккю насупился и ответил: «Иди в задницу!» Управляющий разгневался: «Как ругается этот дерзкий монах! Заткните ему рот, свяжите его!»
6
О том, как Иккю помог ронину получить должность
Когда Иккю пребывал в земле Каи, один ронин принимал его у себя. «Иккю — воплощённый Будда, и, если его попросить, может, помог бы мне продвинуться по службе?» — так втайне думал он, но всё случай не подворачивался, и не мог он его попросить. Однажды, когда Иккю пребывал в хорошем расположении духа, ронин угостил его сакэ и воспользовался случаем:
— Мои родичи веками служат здесь в разных местах, а я не смог добиться достатка и появиться к ним не могу, стыжусь. Дорожные деньги уже подходят к концу, не знаю, что и делать. Сжальтесь, проявите милость, помогите мне занять подобающее положение! — так упрашивал он, и Иккю его пожалел, кивнул и спросил:
— А какие вы искусства знаете?
Ронин отвечал:
— Не учён я никаким искусствам.
Иккю тогда спрашивал о каждом из искусств — церемонии, музыке, стрельбе из лука, верховой езде, каллиграфии, математике, и тот отвечал, что ничему из этого не учился.
— Что же, вы — ронин, который совсем ничего не умеет? — спросил Иккю и задумался, тогда тот человек сказал:
— Я знаю первую часть танца «Ацумори»![254]
— Вот это хорошо! — отвечал Иккю и тут же созвал буянов со всей округи и втайне с ними совещался. Договорился о барабане, устроил зрительные места, установил полотняную ширму вокруг и расставил повсюду таблички с объявлениями:
«Ныне приехал из столицы исполнитель танца ковака-маи[255] для сбора пожертвований. Ответственный за сбор пожертвований — Старый наставник Поднебесной Иккю»
Собрались самураи — это уж само собой, а кроме них, и городские жители, и крестьяне, собрались богатые и бедные с округи в пять-семь ри, и, хоть место для представления было просторное, набились туда так, что чуть не рвали полотнища, которыми была огорожена площадка.
И вот, появился тот ронин, разодетый в богатые одежды, прошёл на сцену, исполнил первую часть танца «Ацумори» и вышел в артистическую уборную. Тут же вышел к сцене человек и сказал:
— Порадовал он нас всех чудесным зрелищем, благодарим! — так он говорил как по-писаному, и сказал: — Что же, что мы попросим исполнить дальше? Высказывайте пожелания! — и тогда многие зрители наперебой стали выкрикивать названия пьес: «Дайсёкукан!», «Сида!», «Такадати!», «Киёсигэ!» — как будто бы заранее сговорились[256]. А те буяны, о которых раньше шла речь, встали и закричали:
— Нет, хотим «Ацумори»!
Те, кто раньше кричал, возмутились:
— Скучно же смотреть одно и то же во второй раз!
Тогда те буяны закричали:
— Раз уж он так хочет, не нравится ему «Ацумори», так и нечего ему тут делать, давайте-ка спровадим его! — так они кричали, и настояли на том, чтобы снова ронин сыграл «Ацумори», и так он играл четыре или пять раз. После этого зрителям сказал:
— На сегодня я с вами прощаюсь! — и выпроводил их.
В Митогути говорили: «Завтра будет что-то другое!» — эта весть разошлась, и набилось ещё больше людей, чем накануне. Ронина снова заставили исполнять «Ацумори», и так продолжалось семь дней.
Вот так тот ронин занял неплохое положение в тех местах. Говорят, что тамошний управляющий, хоть и слышал о том, но, поскольку то была проделка Иккю, делал вид, что ничего не ведает.
Появился ронин, разодетый в богатые одежды, прошёл на сцену, исполнил первую часть танца «Ацумори» и вышел в артистическую уборную. Тут же вышел к сцене человек и сказал: «Порадовал он нас всех чудесным зрелищем, благодарим!»
7
О том, как одного человека назвали обжорой
Там же жил один неимоверно хвастливый самурай. Как-то раз вместе с Иккю они пошли обедать. Иккю сказал:
— Ну ты и обжора, однако! — а тот, раззадорившись, отвечал:
— Чего уж там, это разве еда! Когда я был помоложе, собрались мы с друзьями, и на спор попросил истолочь целый то[257] риса на лепёшки-моти, съел, и всё равно ещё не наелся. Тогда умял ещё и всё множество просяных лепёшек, какие там были, живот так раздуло, что побежал я к реке, плюхнулся рядом с большим судном, да реку и запрудил!
Иккю послушал его и сказал:
— Вот уж действительно, можешь ты поесть! О таком обжорстве я и не слышал. Однако же был у меня знакомый ямабуси, и он, тоже на спор, умял два то лепёшек подчистую, живот у него раздулся, и он побежал к сосновой роще, выворотил сосенку в три обхвата и присел на неё отдохнуть. Смотрит — небольшая змея проглотила большую лягушку и мучается, поела какую-то необычную травку, и живот у неё сразу опал. «Как хорошо, что я её заметил!» — обрадовался ямабуси, наелся той травы, тут-то и подвела его судьба. Человек от той травы исчезает, так что исчез и монах, остались лишь два то рисовых лепёшек, а на них — шапочка-токин, конопляная ряса, раковина-хорагай да паломнический «алмазный посох».
Тот самурай переменился в лице и ушёл, а больше уж не приходил.
Вообще говоря, не дело это — бахвалиться обжорством, потому-то Иккю и подшутил над ним.
8
О том, как Иккю изгнал призрака
В той же земле, где-то на окраине, в одном старом святилище был большой каменный фонарь. По ночам он стал сам собой зажигаться, а вокруг него ходил кругами огромный монах, и не было таких, кто бы его не видал, и таких, кто не устрашился бы, и, лишь мельком завидев его, каждый старался более его не видеть. Прослышал об этом Иккю и сказал:
— Нынче же ночью изгоню его!
Возрадовались местные жители, не могли дождаться вечера, собрались у того места посмотреть, что же будет, и ночью, как обычно, тот монах там кружил, как мельница. Все говорили:
— Хоть Иккю и говорил, что избавится от него, но что-то пока толку не видно! — так всяк на свой лад осуждали его, когда появился ещё один, и стали они кружить там той ночью вдвоём. Поздней ночью все разошлись по домам.
С утра пришли они к жилищу Иккю:
— Всё не так, как вы говорили! Давешним вечером призрак пришёл и ходил кругами, как обычно, а потом появился ещё один, и они там кружили вдвоём! — так наперебой голосили они, а Иккю, выслушав их, сказал:
— Тот другой — это был я. Целую ночь ходили мы друг за другом, но в конце концов я его переходил и сказал ему дважды и трижды, чтобы он больше не появлялся. Поэтому он уже не придёт! — так известил он жителей, и те захлопали в ладоши от избытка чувств.
Говорят, что тем же вечером пошли они смотреть, и призрак уж больше не появлялся. Это было более, чем удивительно!
9
О поэтическом намёке на бобы
Иккю был остёр на язык, и пошёл представиться жене местного управляющего. Там его обступили со всех сторон: «Расскажите нам что-нибудь!» — и приготовились слушать.
«Как удачно складывается!» — подумал Иккю и принялся рассказывать. Тамошние дамы расчувствовались:
— Какие интересные истории вы рассказываете! Как жаль, что они такие короткие. Расскажите что-то подлиннее, так, чтобы нам даже наскучило! — попросили они.
— Хорошо же, как вам будет угодно! — ответил Иккю и принялся за долгий рассказ.
— Когда я пошёл для вечерней беседы к одному человеку, к чаю подали упаренные сладкие бобы. Кто-то рядом сказал: «Давайте об этих бобах скажем что-нибудь поэтическое, прежде чем есть?» — «Давайте!» — согласились все и стали один за другим говорить: «Обезьяньи бобы», «Упорные, как бобы», «Стойкие, как бобы» и так далее, а потом вышел человек, по виду — не из тех, что блещут умом, и сказал: «Госпожа направляется в паломничество в Ёсино» — и с этими словами взял бобы и съел. Те, услышав, насели на него: «Что это, при чём здесь к бобам какая-то госпожа, направляющаяся в Ёсино?» — а он отвечал: «Как, вы не знаете? Подобно лягушке, что живёт в колодце, а моря не видала! Как вам всем известно, этой весной супруга моего господина отправилась в паломничество в Ёсино, и я её сопровождал. По дороге осмотрели известные в старину места — реку Саогава, деревню Идэ, реку Тамамидзу[258] и прочие, налюбовавшись, вступили в Ёсино, а горы там были белы от цветов, как будто в снегу. Обошли мы все святилища и храмы, а потом поднялись на вершину и любовались видами, когда вдруг подул сильный ветер, сорвал с госпожи лакированную шляпу и унёс в долину. Тогда я, остерегаясь, будто заглядывая в бездну или ступая по тонкому льду, перебираясь со скалы на скалу, спустился и подобрал её. Шляпа немного потёрлась, и госпожа, увидев её, сказала: „Как жаль!“ Потом она осмотрела достопримечательности Тацута, Хорюдзи, Нара, Хасэ, посетила Три горы, Дарумадзи, Таэма[259] и прочие места, прибыла в столицу, там её встречали дамы из той же семьи, а она к ним вышла в хорошей шляпе. По этому поводу она вспомнила о другой и приказала: „Отнеси шляпу заново покрыть лаком!“ — пошёл я к лакировщику, а тот сказал: „Три мона серебром!“ — а хозяйка, как услышала, и говорит: „Нет уж, такие деньги я платить не стану! Тогда пускай уж просто закрасят!“ — и дала две связки медяков, каждый размером не больше бусины в чётках. Вообще говоря, госпожа придирчива, и сказала: „Что-то они мелкие, не больше боба!“ Потому-то мой намёк на бобы — лучший в Трёх государствах![260]»