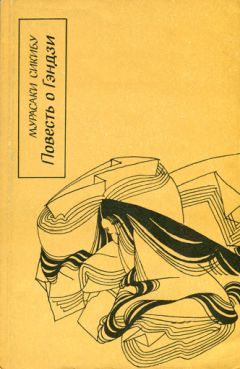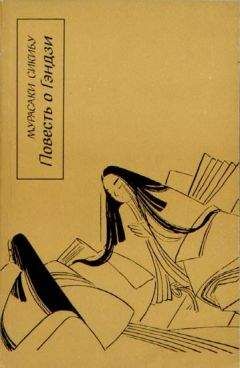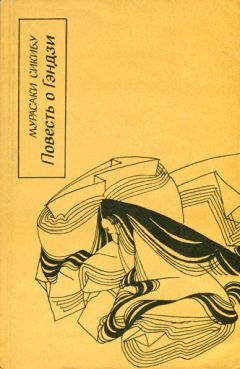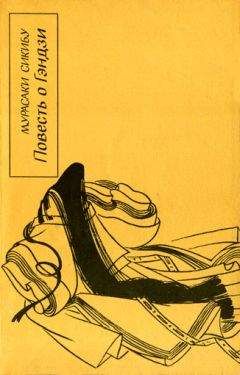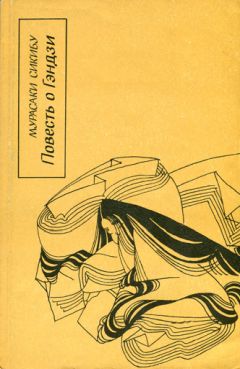Сияние новой весны озарило мир, а в душе Гэндзи по-прежнему царил беспросветный мрак. Как обычно, в первые дни года многие приходили к нему с поздравлениями, но, сказавшись больным, он никого не принимал и, только узнав, что пожаловал принц Хёбукё, велел провести его во внутренние покои.
— В доме моем
Никто не станет отныне
Восхищаться цветами.
Так для чего же, весна,
Ты снова приходишь ко мне?—
сказал он принцу, и тот ответил, рыдая:
— Пришел я сюда,
Чтобы вдохнуть аромат,
Цветами оставленный,
А ты меня счел, увы,
Обычным весенним гостем.
Выйдя в сад, принц остановился под красной сливой. «Может ли кто-нибудь другой оценить…» — подумал Гэндзи, любуясь его изящной фигурой.
Стояла та прекрасная пора, когда цветы только начинают раскрываться. Раньше в такие дни в доме Гэндзи звучала музыка, но нынешней весной все было иначе.
Дамы, давно прислуживавшие в доме, не снимали одеяний скорби. Новый год не принес им облегчения, они плакали и стенали, ни на миг не забывая о своем горе. Единственное их утешение составляли заботы о господине, который не покидал дом на Второй линии даже ради того, чтобы навестить кого-нибудь из близких ему особ. Некоторые из этих дам в былые времена не то чтобы пробуждали в душе Гэндзи глубокие чувства — этого не было, но становились предметом его сердечной наклонности и, казалось бы, теперь, когда он коротал ночи в тоскливом одиночестве… Однако Гэндзи не отличал никого, и даже прислужницы, остающиеся на ночь в его покоях, помещались в отдалении. Иногда, не в силах сдерживать тоски, Гэндзи беседовал с дамами о прошлом. Далекий от суетных помышлений, он тем не менее часто вспоминал, как огорчали госпожу его измены. «Для чего я заставлял ее страдать? — думал он, терзаемый запоздалым раскаянием. — Госпожа все принимала так близко к сердцу — и случайные прихоти, и подлинные увлечения… Она не была злопамятна, тем более что, обладая недюжинным умом и прозорливостью, прекрасно понимала, сколь велика моя любовь к ней, и все же каждое новое свидетельство моей неверности повергало ее в отчаяние и заставляло сомневаться в моих чувствах».
Многие дамы прислуживали в доме долгие годы и, разумеется, знали немало. Они рассказывали Гэндзи о том, как грустила и сетовала на судьбу госпожа, когда в дом на Шестой линии переехала Третья принцесса. Пусть она притворялась спокойной и безмятежной, нельзя было не видеть, что она страдает… А как ласково госпожа встретила его в то утро после метели, когда он, дожидаясь, пока ему откроют, едва не окоченел от холода… Только вот рукава ее промокли от слез, и она прятала их, стараясь, чтобы он ни о чем не догадался. Когда, в каком из миров доведется ему снова увидеть ее? Неужели даже во сне…
Всю ночь он не смыкал глаз, когда же рассвело, услыхал голоса дам, очевидно возвращавшихся в свои покои.
— Смотрите, сколько выпало снегу…
Да, в тот день тоже шел снег… Но теперь Гэндзи был один, и мучительная тоска сжимала его сердце.
— Когда бы я мог,
Этот горестный мир покинув,
Исчезнуть-растаять.
Но, видно, мне жить суждено,
Хоть и к другому стремился… (352).
Омыв руки, Гэндзи постарался обрести забвение в молитвах.
Отобрав еще не прогоревшие угли, прислужницы положили их в жаровню и поставили ее подле господина. Тюнагон и Тюдзё постарались развлечь его беседой.
— Нынешней ночью одиночество показалось мне особенно мучительным, — пожаловался Гэндзи. — Неужели сердце мое до сих пор не очистилось и я по-прежнему во власти суетных помышлений?
«А ведь если и я уйду, — невольно подумал он, глядя на дам, — их жизнь будет вовсе безотрадной…»
В такие дни особенно трудно было удержаться от слез, внимая его тихому голосу, произносящему священные слова. В самом деле, могли ли рукава стать запрудой? (353). Да и кто остался бы равнодушным, денно и нощно видя его печальное лицо?
— Высокое рождение позволило мне прожить свой век, ни в чем не испытывая недостатка, — говорил Гэндзи, — и все же мне всегда казалось, что мало кому на долю выпало столько горестей. Видно, сам Будда определил мне такую судьбу, желая раскрыть глаза мои на печаль и тщету этого мира. Я долго жил, упорствуя в своем неведении, но, когда годы мои склонились к закату, на меня обрушилось новое и самое страшное несчастье. Увы, сомнений быть не может — и предопределение мое, и душевные силы исчерпаны. Ничто больше не привязывает меня к миру. И все же страх овладевает мной при мысли о скорой разлуке с вами. За эти дни мы сблизились больше, чем за все предыдущие годы. Да, как ни тщетно все в нашем мире, нелегко от него отказаться…
Он попытался осушить глаза, но слезы катились по его щекам неудержимым потоком, и, глядя на него, дамы тоже заплакали. Им хотелось сказать, в какое отчаяние повергает их одна мысль о разлуке с ним, но, не в силах выговорить ни слова, они лишь молча роняли слезы.
Часто в тихие утренние часы после томительного ночного бдения или унылыми вечерами, приходившими на смену мрачным, тоскливым дням, Гэндзи призывал к себе прислужниц, с которыми был особенно близок, и подолгу беседовал с ними.
Даму по прозванию Тюдзё он знал еще девочкой и, видимо, не раз тайно оказывал ей внимание. Она же, чувствуя себя виноватой перед госпожой, старалась держаться от него в отдалении.
Прежние желания давно не волновали сердце Гэндзи, но Тюдзё была любимицей госпожи, и он дорожил ею как памятью, оставшейся от ушедшей. Она была миловидна, приветлива, и, видя в ней сосну «унаи»[116], он предпочитал ее общество любому другому.
В те дни Гэндзи встречался только с самыми близкими ему людьми. Навестить его приходили многие важные сановники, с которыми был он некогда дружен, братья, но он почти никого не принимал, ибо боялся, что не сумеет, несмотря на все старания, сохранить необходимое в таких случаях спокойствие. За последнее время он настолько пал духом, что легко мог допустить какую-нибудь досадную оплошность, которая не только навлекла бы на него насмешки молодых людей, но и на долгие века закрепила бы за ним дурную славу. Несомненно, его упорное нежелание встречаться с людьми тоже можно было расценить как проявление малодушия, и все же… Одно дело — знать о чем-то с чужих слов, и совсем другое — самому быть свидетелем…
Теперь даже с Удайсё Гэндзи разговаривал только через занавес. Однако, живя затворником, он вместе с тем не решался разорвать последние связи с миром. «Пройдет некоторое время, люди привыкнут, — думал он, — и перестанут обо мне судачить. Вот тогда-то…» Иногда Гэндзи навещал обитательниц дома на Шестой линии, но стоило ему приехать туда, как дождь слез начинал лить с новой силой, поэтому он бывал там крайне редко.
Тем временем Государыня-супруга вернулась во Дворец, оставив с Гэндзи Третьего принца. Мальчик заботливо — «так велела бабушка» — ухаживал за растущей у флигеля красной сливой, и Гэндзи наблюдал за ним с умилением.
Настала Вторая луна, и словно чудесная дымка окутала деревья. Одни сливы были уже в полном цвету, на других только начинали раскрываться бутоны. В ветвях той самой красной сливы звонко пел соловей. Однажды Гэндзи вышел в сад полюбоваться цветами.
— Нет уже той,
Что эту сливу сажала,
Любовалась цветами,
А соловей, прилетев сюда снова,
Как ни в чем не бывало, поет…—
тихонько произнес он.
Весна постепенно входила в силу, и сад принимал свой обычный вид, но сердце Гэндзи не знало покоя, и вовсе не потому, что его волновала судьба цветов. Каждая мелочь пробуждала в его душе мучительные воспоминания, и ему хотелось одного — укрыться в тех далеких горах, где не услышишь, как «кричат, пролетая, птицы» (295). Даже на пышные, яркие керрии не мог он смотреть без слез.
Не успели осыпаться простые вишни, как расцвели многолепестные, а вслед за ними украсились цветами и горные вишни «кабадзакура». Когда же отцвели и они, настало время глициний. Ушедшая госпожа, проникшая душу цветов, посадила в саду и ранние и поздние растения, и каждое расцветало в свой срок.
— Вот и моя вишня расцвела, — радовался Третий принц. — Что сделать, чтобы цветы не осыпались? Может, загородить ее со всех сторон занавесами? Тогда ей никакой ветер не страшен.
Он был очень горд, что ему пришла в голову столь удачная мысль, и, глядя на его прелестное личико, Гэндзи невольно улыбнулся:
— Да, пожалуй, это лучше, чем прикрывать рукавом небо (148). Это дитя было единственным его утешением.
— Нам недолго осталось быть вместе, — сказал Гэндзи, и на глазах у него заблестели слезы. — Даже если жизнь моя еще некоторое время продлится, мы принуждены будем расстаться.
— Нельзя так говорить! — рассердился мальчик. — Вот и бабушка когда-то…