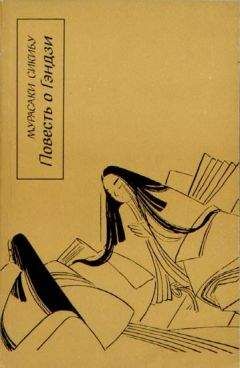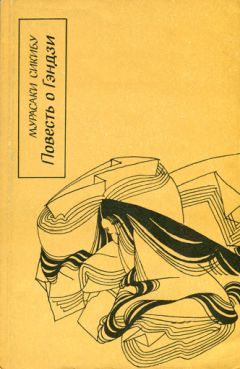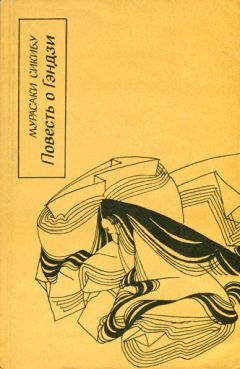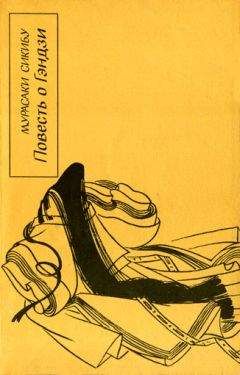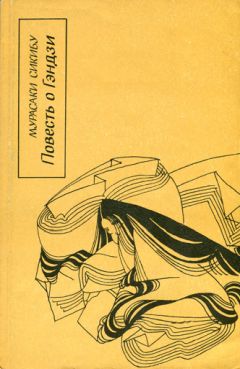Что касается старинных песен, то несомненна ценность собраний, составленных из лучших, тщательно подобранных по темам образцов, которые предваряются названием и именем автора. Вряд ли кому-нибудь могут доставить удовольствие всем надоевшие старые песни, беспорядочно написанные на гладкой, покоробившейся бумаге «канъя»[336] или «митиноку» Однако к ним-то и обращалась дочь принца Хитати, когда ей становилось особенно грустно.
В наши дни люди охотно отдают часы чтению сутр или молитвам, но она стыдилась заниматься этим и, даже оставаясь одна, никогда не посылала за четками. Так уныло и монотонно текли ее дни.
Только дочь старой кормилицы, женщина по прозванию Дзидзю, не покинула ее и по-прежнему заботилась о ней. Но по прошествии некоторого времени скончалась жрица, в доме которой она тоже прислуживала, и Дзидзю оказалась в крайне стесненных обстоятельствах. Между тем как раз в это время родная тетка дочери принца Хитати, которая, обеднев, стала госпожой Северных покоев в доме наместника, подыскивала хорошо воспитанных молодых женщин в наперсницы к своим дочерям, и Дзидзю, рассудив: «Чем совсем незнакомый дом, лучше уж этот, с которым мать моя была связана», иногда заходила к ним. Будучи особой крайне замкнутой, дочь принца Хитати избегала короткости и с теткой, чем успела заслужить ее неприязнь.
— Сестра всегда гнушалась мною, считая, что я запятнала честь семьи, поэтому при всем моем сочувствии к племяннице я не могу ее навещать, — говорила супруга наместника, но иногда все же писала к дочери принца.
Часто люди, принадлежащие по рождению своему к низкому состоянию, стремятся во всем подражать благородным особам, и некоторым удается в конце концов достичь немалой утонченности во всех проявлениях своих. Однако с теткой дочери принца Хитати произошло как раз обратное. Происходя из стариннейшего рода, она опустилась довольно низко. Впрочем, может быть, таково было ее предопределение. Так или иначе, душевной тонкости ей явно недоставало.
«Сестра презирала меня за то, что я удовлетворилась столь низким положением. Почему бы мне теперь не воспользоваться крахом их дома и не взять дочь принца в услужение к моим дочерям? Разумеется, она весьма старомодна, но на нее вполне можно положиться», — подумала она и написала племяннице:
«Я была бы очень рада видеть вас в своем доме. У нас есть кому послушать вашу игру на кото».
Дзидзю уговаривала госпожу принять приглашение, но та — и не из-за упрямства вовсе, а просто из-за чрезмерной застенчивости — не захотела сближаться с семейством тетки, чем обидела ее самым чувствительным образом.
Тем временем наместник получил звание дадзай-но дайни и собирался, обеспечив дочерям соответствующее положение, уехать в провинцию. Супруга его решила, что было бы неплохо взять с собой дочь принца.
— Теперь, когда мы отправляемся так далеко, я буду еще больше тревожиться, зная, как вы одиноки. Я нечасто посещала вас, но была спокойна, сознавая, что вы рядом, — настаивала она и, получив новый отказ, пришла в ярость.
— Вот негодная! Еще смеет спесивиться! Но сколько ни кичись, господин Дайсё никогда не обратит внимания на женщину, живущую в диких зарослях.
Скоро по Поднебесной разнеслась радостная весть: «Он прощен и возвращается в столицу!» Гордые вельможи и простолюдины, мужчины и женщины наперебой спешили уверить господина Дайсё в своей исключительной преданности, и, проникая в их разнообразные побуждения, он сделал немало взволновавших его открытий.
В это довольно хлопотное для него время Гэндзи, судя по всему, и не вспоминал о дочери принца Хитати, а луны и дни между тем сменяли друг друга. «Да, это конец, — думала она. — Как ни горевала я все эти годы, сочувствуя ему в его несчастье, я могла по крайней мере надеяться, что настанет весна… (153). Теперь же, когда даже самые презренные людишки, никчемные, словно камешки на дороге, словно черепичные осколки, радуются его возвращению, мне остается лишь со стороны наблюдать за тем, как его осыпают почестями. Приходится признать, что лишь для меня одной стал этот мир столь безотрадным (154). О, как же все тщетно!» Сердце ее готово было разорваться от горя, и, оставаясь одна, она плакала навзрыд.
«Я же ей говорила, — негодовала супруга Дадзай-но дайни. — Разве кто-нибудь удостоит внимания особу, влачащую столь нелепое, жалкое существование? И будды и совершенномудрые охотнее поведут за собой человека, не обремененного грехами, а она, живя в полной нищете, по-прежнему смотрит на мир свысока и ведет себя так же надменно, как в те давние времена, когда были живы ее родители. Все это, право, печально».
«Вы должны наконец решиться, — написала она дочери принца. — Человек, сокрушенный печалью, ищет спасения в горной глуши (43). Я знаю, сколь презрительно относитесь Вы ко всему провинциальному, но обещаю, что Вам не придется жалеть о своем решении».
Читая это ловко составленное письмо, давно уже потерявшие всякую надежду дамы шептались, осуждая госпожу:
— Почему бы ей не послушаться? Что хорошего в ее нынешнем положении?
— На что она может рассчитывать, проявляя такое упрямство? Дзидзю же тем временем сговорилась с каким-то человеком, кажется племянником того самого Дадзай-но дайни, а как муж не соглашался оставить ее в столице, ей волей-неволей тоже приходилось уезжать.
— Мне не хотелось бы расставаться с вами, — говорила она своей госпоже, убеждая ее согласиться на предложение тетки, но та по-прежнему жила надеждой и верой в того, кто скорее всего давно уже и думать забыл о ее существовании. «А вдруг когда-нибудь он вспомнит обо мне? Его клятвы были так трогательно-искренни… Видно, такова уж моя судьба — быть забытой. Но если ветер вдруг принесет к нему весть о моем бедственном положении, он непременно приедет сюда». Так думала она и, хотя жилище ее за эти годы еще более обветшало, упорно отказывалась расстаться даже с самыми незначительными предметами обстановки не желая ни в чем менять привычного образа жизни.
В последнее время она много плакала, терзая себя безрадостными думами, нос ее распух — словно красная ягода приросла к лицу… А уж если посмотреть сбоку… Право, не всякий способен вынести подобное зрелище. Но не буду касаться подробностей. Жаль ее, да и злословить не хочется.
С наступлением зимы дочери принца стало и вовсе не к чему прибегнуть, целыми днями она лишь печалилась и вздыхала. Между тем разнесся слух, что господин Гон-дайнагон намеревается провести Восьмичастные чтения в память ушедшего Государя. Для участия в этих чтениях были приглашены самые почтенные, достигшие великой мудрости и мастерства в творении обрядов монахи, среди них оказался и монах Дзэнси. На обратном пути он навестил сестру.
— Я пришел в столицу, — рассказывал он, — дабы принять участие в Восьмичастных чтениях, которые проводились в доме Гон-дайнагона. С роду не видывал ничего великолепнее! Наверное, только в Чистой земле бывает такая красота. Право же, там было все, что только можно отыскать прекрасного на свете. Сам же хозяин не иначе, как земное воплощение будды или бодхисаттвы. И для чего родился он в этом мире, загрязненном пятью сквернами?[337]
И монах, не задерживаясь, продолжил свой путь. Ну где еще найдешь столь молчаливых брата и сестру? Они редко беседовали даже о самых незначительных делах этого мира.
«Что за жестокий Будда, — обиженно подумала дочь принца, взволнованная рассказом брата. — Ужели мое бедственное положение не способно возбудить жалость в его сердце?»
Постепенно она стала склоняться к мысли, что надеяться больше не на что.
Как раз в это время ее неожиданно навестила супруга Дадзай-но дайни. Они никогда не были близки, но, движимая желанием завлечь племянницу в провинцию, эта властолюбивая особа, приготовив богатые дары, приехала без всякого предупреждения в роскошно убранной карете. В лице ее, в каждом движении проглядывало безграничное самодовольство. Когда она подъехала к дому принца Хитати, несказанно унылая картина представилась ее взору. Створки ворот — и правая и левая, — обветшав, упали, и телохранители затратили немало сил на то, чтобы их отворить. «А где же три тропки?[338] - искали они. — Их ведь не может не быть даже в самом бедном доме».
В конце концов карету подвели к южной части дома, где решетки оказались поднятыми, и, как ни уязвлена была дочь принца бесцеремонностью гостьи, ей пришлось, укрывшись за удивительно грязным занавесом, выслать вперед Дзидзю.
Дзидзю за эти годы тоже осунулась и утратила прежнюю свежесть, но и теперь она была весьма миловидна и изящна, поэтому при взгляде на нее у многих возникало не совсем, быть может, уместное желание поменять их с госпожой местами.
— Я должна отправиться в путь, как ни тяжело мне оставлять вас в этом бедном жилище. Я приехала за Дзидзю. Вы никогда не удостаивали меня своей приязни и старательно избегали моего общества, но я прошу вас отпустить хотя бы Дзидзю. Ах, бедняжка, как вы можете жить здесь? — сказала супруга Дадзай-но дайни.