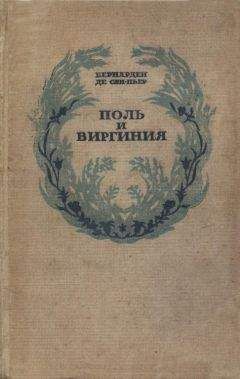Панфия снова упала и принялась стенать.
Оставшись вдвоем, мы с Сатиром стали обсуждать, что же делать дальше, и решили, что единственный выход – это бежать, причем еще до зари, прежде чем подвергнутая пыткам Клио во всем сознается.
За словами тотчас последовало дело. Мы не стали откладывать побега и, сказав привратнику, будто идем к любовнице, поспешили к дому Клиния. Была уже полночь, и привратник открыл нам без всякой охоты. Спальня Клиния находилась наверху, – услышав наш разговор, он встревожился и тотчас спустился вниз. В этот момент мы заметили, что нас догоняет Клио. Оказывается, она тоже решила бежать. Мы все заговорили в один голос, и вот Клиний услышал сразу о том, что случилось с нами, мы – о том, как убежала Клио, а она о наших планах. Войдя в дом, мы стали обсуждать случившееся и сказали Клинию, что не находим другого выхода, кроме побега. Клио сказала:
– Я тоже с вами. Если я останусь здесь до зари, то меня ждет смерть. Хотя и смерть слаще, чем пытки.
XXVI
Клиний взял меня за руку, увел подальше от Клио и сказал:
– Мне кажется, что я нашел наилучший выход, – ее мы незаметно отправим, а сами несколько дней подождем, но если придется все же бежать, то хорошенько подготовимся и тронемся в путь. Ведь вы сами говорите, что мать Левкиппы не знает, кто нанес ее дочери оскорбление, а поскольку не будет Клио, она и не узнает. Может статься, что вы и Левкиппу убедите последовать за вами.
Вот что сказал мне Клиний, при этом он добавил, что, возможно, и сам разделит с нами путешествие. На этом и порешили. Клиний вызвал своего раба и поручил ему посадить Клио на какой-нибудь корабль. Когда Клио ушла, мы стали думать о том, как быть дальше. В конце концов мы остановились на том, что попытаемся уговорить Левкиппу бежать вместе с нами, если она согласится, то так и сделаем, если же нет, то мы и сами останемся, вручив себя Судьбе. Ночь была уже на исходе, когда мы легли спать, а утром вернулись домой.
XXVII
Панфия, как только встала, приказала позвать Клио, чтобы подвергнуть ее пыткам. Но так как Клио не оказалось на месте, Панфия снова бросилась к Левкиппе и принялась за свое:
– Ты скажешь мне наконец, как все это произошло, или нет? И Клио я не вижу.
Левкиппа еще больше осмелела и говорит:
– Что еще ты хочешь от меня? Какие доказательства моей правдивости тебе еще нужны? Если ты хочешь проверить, девственна ли я, то проверяй!
– Только этого еще недоставало! – воскликнула Панфия,- чтобы мы опозорились при свидетелях! – С этими словами она ринулась вон из комнаты.
Левкиппу, ошеломленную криком матери, обуревали самые разные чувства: она печалилась, стыдилась, возмущалась. Она испытывала печаль, потому что была поймана, стыдилась, потому что ее поносили, возмущалась оттого, что ей не верили. Стыд, печаль и гнев – это три волны души. Вливаясь через глаза, стыд уничтожает их свободу; печаль заливает грудь и тушит искры души; гнев же, взрывающийся в сердце, топит рассудок в пене безумия. И все эти три волны рождаются от слова. Слово, словно стрела, пущенная из лука, попадая в цель, вонзается в душу и наносит ей рану. Стрелы брани влекут за собой гнев, если же слово вскрывает твое несчастье, то возникает и объемлет душу печаль. Стрела упрека наносит рану, называемую стыдом. II хотя раны, нанесенные словами, бескровны, но след их очень глубок. И лучшее средство отразить стрелы слов – это пустить в ответ такие же. Ядовитое оружие языка страшится только одного противоядия, содержащегося в языке другого. Только так можно смирить раздражение опечаленной души. Если же, в силу необходимости, пришлось смолчать перед более могущественным противником, то подобное молчание растравляет раны. Ведь волны страдания, поднявшиеся от слов, разгуливаются еще сильнее, если они не могут освободиться от пены. Именно поэтому Левкиппа чувствовала себя такой несчастной, не будучи в состоянии отразить натиск матери.
XXIX
Случилось так, что именно в тот момент, когда Левкиппа остро переживала обиду, я послал к ней Сатира, чтобы он спросил ее, хочет ли она бежать вместе с нами. Она, еще не дослушав до конца предложение Сатира, взмолилась:
– Ради всех богов, молю вас, избавьте меня от матери, как хотите. Если вы оставите меня здесь, а сами исчезнете, я надену на шею петлю и хоть таким способом, но освобожу свою душу.
Тяжелый груз сватался с моих плеч, когда я узнал, что Левкиппа так ответила Сатиру. Через два дня, дождавшись того, что отец куда-то уехал, мы начали готовиться к побегу.
XXX
У Сатира еще оставались те сонные порошки, которыми он усыпил Комара. Прислуживая нам за столом, он незаметно подсыпал зелье в последнюю чашу Панфии и подал ей. Встав из-за стола, Панфия отправилась в свою спальню и тотчас заснула. У Левкиппы в это время появилась уже другая служанка, причем Сатир делал вид, что и в нее он влюблен; эту служанку Сатир тоже усыпил своими порошками, а затем отправился на охоту в третий раз и опоил порошками привратника. У ворот стояла наготове повозка, которую приготовил для нас Клиний, он сам уже сидел в ней, поджидая нас. Все спали глубоким сном, и в первую ночную стражу мы потихоньку вышли из дома,- Левкиппу вел за руку Сатир. Нам повезло и в том отношении, что Комар, который все это время не спускал с нас глаз, именно в этот день ушел из дома, выполняя какое-то поручение своей госпожи. Сатир неслышно распахнул двери, мы вышли, быстро достигли ворот и сели в повозку.
Нас было шестеро: Левкиппа, Сатир, я, Клиний и двое его рабов. Мы поехали по Сидонской дороге и прибыли в Сидон на рассвете; не останавливаясь, мы двинулись в Бейрут, рассчитывая найти там стоящий на якоре корабль. И действительно! В Бейруте мы застали корабль, который вот-вот должен был сняться с якоря. Мы даже не стали спрашивать, куда он плывет, но немедленно на него перебрались. Начинало светать, когда мы были готовы к отплытию в Александрию, великий город на Ниле.
Увидев море, я очень обрадовался, хотя судно еще не покинуло гавани и покачивалось на волнах. Подул попутный ветер, благоприятный для отплытия, и на корабле началась страшная суматоха. Кормчий отдавал приказы, по палубе взад и вперед сновали матросы, натягивали канаты, вращали рею, спускали парус. Подняли якорь, и отчаливший корабль покинул гавань.
Мы смотрели, как земля медленно исчезает вдали, словно уплывает сама. Все пели пэан и, призывая богов-спасителей, истово молили их о благополучном исходе плавания. Порыв ветра наполнил парус и повлек корабль в открытое море.
XXXII
Случайно по соседству с нами расположился один юноша. Когда наступил час завтрака, он радушно предложил нам разделить с ним трапезу. Сатир стал прислуживать. Мы выложили на середину все, что было у нас, и начали есть и беседовать. Я первый спросил:
– Откуда ты, юноша, и как твое имя?
– Меня зовут Менелай, родом я из Египта. А вы кто такие?
– Я Клитофонт, а он Клиний, мы оба из Финикии.
– По какой же причине отправились вы путешествовать?
– Расскажи нам о себе, тогда услышишь о нас.
XXXIII
– Завистливый Эрот и неудачная охота принудили меня пуститься в путешествие,- ответил Менелай.- Я любил прекрасного отрока, а он был страстным охотником. Я часто отговаривал его, но не мог справиться с его приверженностью к этому занятию. Не будучи в состоянии убедить его оставить охоту, я сам сопровождал его. Как-то мы с ним выехали на охоту верхом, и поначалу, пока мы преследовали мелких зверей, удача сопутствовала нам. Вдруг из леса выбежал вепрь, и мальчик, не раздумывая, бросился вдогонку за ним. Вепрь неожиданно повернул и помчался навстречу охотнику. Но тот не испугался и не повернул вспять, хотя я отчаянно кричал и звал его:
– Осади коня, зверь опасен!
Вепрь сделал рывок и столкнулся с охотником. Когда я увидел это, меня бросило в дрожь. Боясь того, как бы в своем натиске вепрь не поразил коня, я поспешно, не прицелившись достаточно тщательно, пускаю в него стрелу. И она попадает в мальчика!
Может кто-нибудь представить себе, что творилось в моей душе, если она только не покинула меня в тот момент? Но самое трогательное заключалось в том, что, умирая, он обнял меня, вместо того чтобы возненавидеть своего убийцу, и до по следнего вздоха не выпускал из своей руки ту самую руку, которая поразила его.
Родители мальчика повели меня в суд, причем я нисколько не сопротивлялся. Когда мне предоставили слово, я и не подумал оправдываться, но сам сказал, что достоин смерти. Судьи были тронуты моим поведением и присудили меня всего лишь к трем годам изгнания. Теперь этот срок истекает, и я возвращаюсь на родину.
Во время рассказа Менелая Клиний несколько раз принимался плакать, будто бы о Патрокле, а на самом деле, конечно, вспоминал Харикла.