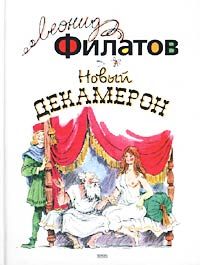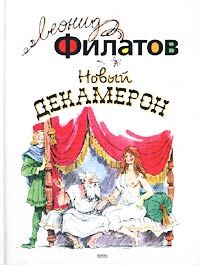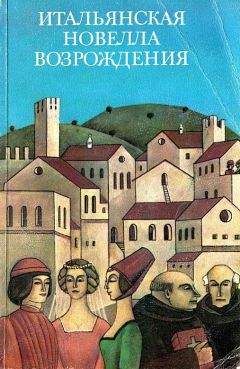Итак, в то время, когда Римской империей правил как триумвир Октавиан Цезарь, еще не получивший названия Августа, в Риме жил знатный человек Публий Квинций Фульв, и у него был необыкновенных способностей сын, Тит Квинций Фульв, и вот этого своего сына Публий Квинций Фульв послал в Афины изучать философию, всецело поручив его заботам старого своего друга, знатного афинянина по имени Кремет. Кремет поселил его у себя, вместе с сыном своим Гисиппом, и отдал их обоих, и Тита и Гисиппа, в учение философу Аристиппу. Совместная жизнь показала, до чего сходны их нравы, и вскоре между ними возникла теснейшая братская дружба, прервавшаяся лишь вместе с их смертью, — оба наслаждались безоблачным счастьем, только когда были вместе. Учиться они начали в один год, и оба, блестящими отличаясь способностями, всходили на сияющую вершину философии ровным шагом и удостаиваясь великих похвал. Так жили они на радость Кремету, любившему их почти одинаково, три года. А в конце третьего года случилось нечто неизбежное: престарелый Кремет отошел, и юноши горевали о нем одинаково, словно это был их общий отец, так что родственники и друзья Кремета не знали, кто из них двоих более нуждается в утешении. Спустя несколько месяцев к Гисиппу пришли его родственники и друзья и вместе с Титом начали уговаривать его жениться на красавице девушке лет пятнадцати, дочери благородных родителей, афинянке, по имени Софрония. Незадолго до свадьбы Гисипп предложил Титу пойти посмотреть невесту — он ее еще не видал. Когда они к ней вошли и она села между ними, Тит на правах судьи невесты своего друга принялся внимательнейшим образом ее рассматривать, и все в ней показалось ему необычайно привлекательным, он не мог ею налюбоваться и, незаметно для постороннего глаза, влюбился в нее так страстно, как никто еще на свете не влюблялся. Побыв у нее некоторое время, друзья возвратились домой.
Уединившись у себя в комнате, Тит стал думать о любимой девушке, и чем дольше мысль его на ней останавливалась, тем сильнее пылал он к ней страстью. Заметив это за собой, он тяжело вздохнул и сказал: «О, как жалок твой жребий, Тит! Где сейчас витает твоя душа, кого ты полюбил, с кем связал надежды? Разве за доброе к тебе расположение Кремета и всей его родни, разве за истинно дружеские чувства, которые питает к тебе жених этой девушки, ты не должен чтить в ней сестру? А ты ее полюбил! Куда завлекла тебя коварная любовь, куда завлекла тебя обманчивая надежда? Отверзни духовные свои очи и погляди на себя, несчастный! Прислушайся к голосу разума, укроти сладострастные вожделения, умерь нечистые желанья и направь свои помыслы на другое. Истреби свою похоть в зародыше и, пока еще не поздно, превозмоги себя. Ты не вправе к этому стремиться, ибо это нечестно. Если бы даже ты был уверен, что достигнешь цели, все равно, покорный велениям истинной дружбы и долга, ты был бы обязан подавить свое чувство. Итак, что же тебе делать, Тит? Если желаешь поступить, как нужно, ты вырвешь из сердца преступную любовь». Но тут он вспомнил Софронию и, переменив мысли, пришел к заключению, что он не прав. «Законы любви сильнее всех остальных, — рассуждал он, — они отменяют не только законы дружбы, но и законы божеские. Разве так не бывало, что отец любил дочь, брат — сестру, мачеха — пасынка? А ведь это страшнее, чем любовь к жене друга, — таких случаев сколько угодно. Притом я молод, а молодость подчиняется за конам любви беспрекословно: что нравится Амуру, то должно нравиться и мне. Пусть люди зрелого возраста ведут добродетельный образ жизни, а я не могу не желать того же, чего желает Амур. Эта девушка так прекрасна, что ее нельзя не любить. И если я, человек молодой, полюбил ее, то никто не имеет права меня осуждать. Я люблю ее не потому, что она принадлежит Гисиппу, — я люблю ее и любил бы, кому бы она ни принадлежала. В том, что она достанется другу моему Гисиппу, повинна судьба. Если же она должна быть любима (а ее нельзя не любить — до того она хороша), то Гисипп должен быть рад, что его жену полюбил я, а не кто-нибудь еще». Однако этот ход рассуждений ему же самому показался смешным, и он опять вернулся к прежним мыслям; и так он думал и передумывал весь день, всю ночь и потом еще несколько дней и ночей, утратил аппетит и сон и в конце концов от слабости слег.
Гисипп, видя, что сперва его друг впал в задумчивость, а потом заболел, очень этим огорчился; он проводил все время у его ложа, неусыпными заботами и уходом старался поднять его на ноги, часто и настойчиво допытывался, что за причина его задумчивости и его болезни. Тит плел небылицы, Гисипп это понимал и продолжал добиваться истины; Тит долго вздыхал, долго плакал, наконец, видя, что ему от Гисиппа не отделаться, ответил так: «Гисипп! Будь на то воля богов, я бы с радостью умер: судьба властно от меня требует, чтобы я выказал мужество, а я, к величайшему моему стыду, чувствую, что не способен на это. Возмездие, то есть — смерть, неизбежно, да я и сам предпочитаю умереть, нежели жить с сознанием того, сколь низко я пал, а так как я не могу и не должен что-либо от тебя скрывать, то, сгорая со стыда, я тебе сейчас в своей низости исповедуюсь». И тут, начав с самого начала, он рассказал ему, отчего он впал в задумчивость, рассказал о душевном своем разладе, о том, что в нем пересилило, и о том, как он из-за Софронии гибнет, а затем объявил, что сознает свою вину, что наказанием ему должна быть смерть и что он скоро умрет.
Когда Гисипп это услышал и увидел его слезы, то погрузился в раздумье, ибо он тоже был пленен красотою девушки, хотя и не так сильно, однако ж он очень скоро пришел к убеждению, что жизнь друга должна быть ему дороже Софронии; глядя на него, он и сам заплакал и, обливаясь слезами, ответил ему так: «Тит! Если б ты не нуждался прежде всего в утешении, я бы тебе попенял за то, что ты поступил не по-дружески, — за то, что ты так долго таил от меня безумную свою страсть. Ты намерения свои почитал нечестными, но ведь от друга нельзя скрывать не только честные намерения, но и нечестные, ибо истинный друг порадуется вместе с другом честным его намерениям, а что касается нечестных, то постарается повлиять на друга, чтобы он выбросил их из головы. Но пока я этим и ограничусь и перейду к более существенному. Что ты пламенно полюбил невесту мою Софронию — это меня не удивляет, я скорей удивился бы, если б ты ее не полюбил, ибо я знаю ее красоту и знаю благородную твою способность увлекаться всем истинно прекрасным. У тебя есть все основания любить Софронию, и ты не прав, сетуя на судьбу (хотя прямо ты об этом и не говоришь) за то, что она отдала ее мне, — ты бы считал, что поступаешь честно, если б она принадлежала кому-нибудь еще. Но будь же последователен: если б судьба отдала ее кому-нибудь другому, а не мне, — что же, ты возблагодарил бы судьбу? Как бы ни была чиста твоя любовь и кто бы Софронией ни обладал, вряд ли бы он пожелал уступить ее тебе, а я — другое дело: я — твой друг, и я не помню, чтобы, с тех пор как мы подружились, мы чего-нибудь не поделили. Если бы даже другого выхода не было, все равно я поступил бы так же, как поступал с тобой во всех случаях жизни, однако ж выход еще есть, и она еще может быть только твоей, и я это устрою. Что же это за дружба, если друг, когда все еще можно устроить без ущерба для чьей бы то ни было чести, не пошел бы другу навстречу? Софрония — моя невеста, я очень ее любил и с радостным нетерпением ожидал свадьбы, все это так, но ты любишь ее сильнее, чем я, она — венец твоих мечтаний, и ты можешь быть уверен, что она войдет в мой покой не моей, а твоею женой. Так отгони же от себя черные думы, рассей тоску, восстанови утраченные силы, будь по-прежнему бодр и весел и спокойно ожидай награды за свою любовь, которая заслуживает ее гораздо больше, чем моя».
Тит слушал Гисиппа, и лучезарная надежда боролась в нем с угрызениями совести, и чем великодушнее выказывал себя Гисипп, тем неблагороднее рисовался он сам себе в том случае, если б он этим великодушием воспользовался. Он сделал над собой усилие и заговорил сквозь слезы: «Гисипп! Твои истинные и великодушные дружеские чувства ясно показывают, как надлежит поступить мне. Господь не попустит, чтобы ту, которую он предназначил тебе как наиболее достойному, я у тебя отнял. Если бы господь увидел, что она больше подходит мне, то можно не сомневаться, что он никогда бы не отдал ее тебе. Итак, радуйся тому, что ты — избранник, радуйся мудрому промыслу божию и дару свыше, а мне предоставь исходить в слезах, — так судил мне бог, ибо счастья я не достоин, — я же, тебе на радость, постараюсь подавить мой душевный недуг; если ж он меня сломит, тогда я, по крайней мере, перестану терзаться».
Гисипп ему на это сказал: «Тит! Наша дружба дает мне право вырвать у тебя обещание и принудить исполнить его, — так я намерен испытать дружеские твои чувства ко мне. Буде же ты по доброй воле не исполнишь мою просьбу, я применю насильственные меры, — ради спасения друга это не грех, — и Софрония все равно будет твоей. Мне ведома сила любви; я знаю, что любовь многих свела в могилу, и ты так к ней близок, что самому повернуть обратно и справиться со своим душевным недугом у тебя уже недостало бы сил, а следом за тобой сошел бы в могилу и я. Итак, если бы даже я тебя не любил, твоя жизнь была бы мне дорога по одному тому, что от нее зависит и моя жизнь. Итак, Софрония будет твоей, ибо другую ты уже так не полюбишь, я же с легкостью устремлю любовные мои думы на иной предмет, и все устроится к нашему с тобой общему благополучию. По всей вероятности, я не был бы столь великодушен, если бы хорошая жена была бы такого же редкостью, как друг, и ее так же трудно было бы найти, но в том-то все и дело, что жена — не друг, найти себе жену ничего не стоит; вот почему я не стремлюсь утратить ее, — уступив ее тебе, я ее не утрачу, а лишь помогу ей сменить хорошее на лучшее, — я предпочитаю изменить ее участь, чем потерять тебя. Так вот, если мои мольбы что-то для тебя значат, перестань терзаться, успокойся сам и успокой меня и, в надежде на лучшее, предвкушай счастье, которого жаждет страстная твоя любовь».