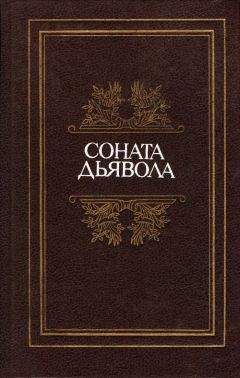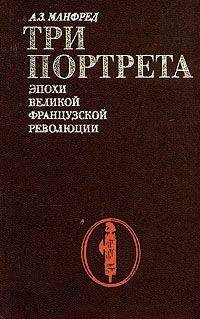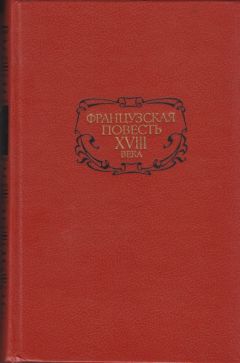Многое в этих строках оскорбляет мою скромность, но они позволят вам понять, почему так долго и с таким трудом превозмогаю я себя. Увы! Сколь счастливы те, у кого хватает мужества побороть свою слабость, ибо, право же, требуется бесконечное мужество, чтобы противостоять тому, кого любишь и кому ранее имел уже несчастье уступить. Резать по живому такую горячую страсть и такую нежную привязанность, и притом столь им заслуженную! Прибавьте к этому и мое чувство благодарности к нему — нет, это ужасно! Это хуже смерти! Но вы требуете, чтобы я себя переборола, — я буду стараться; только я не уверена, что выйду из этого с честью или что останусь жива. Я боюсь возвращаться в Париж. Боюсь всего, что приближает меня к шевалье, и чувствую себя такой несчастной, находясь от него вдалеке. Сама не знаю, чего хочу. Почему любовь моя непозволительна? Почему она греховна?
Напишите мне как можно скорее о себе. Позвольте мне тысячу раз и от всего сердца расцеловать вас. Нежнейший поклон вашим дочерям, целую их обеих. Не забывайте вашей Аиссе и не сомневайтесь, прошу вас, в ее любви и почтении к вам — они безграничны.
ПИСЬМО XXI
Из Пон-де-Веля, 1729
Пишу к вам с запозданием, потому что сильно недомогала; у меня были жесточайшие колики. Я не преминула сказать по этому поводу, что не иначе как это вы до сих пор оберегали меня, ведь в Женеве я ни разу не болела; недуги мои щадили мою радость. Уж лучше бы они теперь не примешивались к душевной моей боли. Уезжала я от вас с величайшей печалью, сударыня. Ваши письма заставили снова сжаться мое сердце и вновь вызвали потоки слез. Каждое мгновение вспоминаю я: как сладостно, как спокойно и легко жилось мне то недолгое время, что я провела подле вас! Все, кого довелось мне встречать в Женеве, соответствовали моим первоначальным представлениям о людях, а не тем понятиям, что сложились у меня позднее, под влиянием жизненного опыта. Вот почти такой же была и я, когда входила в свет, не ведая ожесточения, горестей и печали. Как все изменилось! До чего же здешние обитатели не похожи на тех, кто окружает вас! У меня ни разу не было и минуты доброго настроения с того дня, как мы расстались. Здесь все, как прежде, — желудочные колики, туман, концерты, блохи, крысы и, что всего хуже, люди, но не старого закала, а совсем нового образца. Ограничусь здесь этими общими рассуждениями. Уж позвольте мне не вдаваться по сему поводу ни в какие подробности.
…Можете писать мне безо всякой опаски — письма передаются мне в собственные руки. Человеку, который их получает, приказано вручать их прямо мне, минуя даже мою верную Софи. Здесь так боятся почтовых расходов, что не осмеливаются даже спросить, получила ли я письмо. Архиепископ, тот оплачивает наши с Софи поездки в дилижансе, что, конечно, с его стороны очень благородно. Впрочем, при всей своей скаредности, вздорном нраве и грубом обхождении со мной госпожа де Ферриоль в ту пору, когда я гостила у вас, весьма даже тревожилась о моем здоровье. Она говорила: «Она уехала больной, а что, как у нее лихорадка или оспа?» Она выказывала обо мне не меньшее беспокойство, чем о собственном сыне. Ее горничная сказала Софи, будто из-за меня ее хозяйка не решается поехать на зиму в Амбрен к брату, она-де отказывается от этой поездки из опасения, что я туда ехать не захочу. Можно ли представить себе, сударыня, по ее со мной обращению, чтобы она могла бояться разлуки со мной? От д’Аржанталя было письмо, я получила его, вернувшись от вас. В нем было множество приятных слов, касающихся вас, — уж вы сами себе их вообразите, письмо мое вышло бы слишком длинным, вздумай я их вам все повторять. Отсюда мы через две недели уезжаем в Аблон. Госпожа де Ферриоль проведет там дней десять — двенадцать. Я же оттуда отправлюсь в Санс, чтобы повидать вы догадываетесь кого. Пробуду там как можно дольше. Госпожа де Ферриоль приедет туда вслед за мной. О тамошней встрече сообщу вам как можно подробнее: мне в этом году удастся, таким образом, повидать всех, кто мне дороже всего на свете. Прощайте, сударыня, чувства мои и душа принадлежат вам.
ПИСЬМО XXII
Из Пон-де-Веля, ноябрь 1729
Настал наконец долгожданный день. Уезжаю отсюда завтра утром, одну только ночь остается мне провести тут. Недаром говорила госпожа де Ферриоль, что мне здесь не сидится. Вернувшись от вас, я чуть было не умерла здесь от тоски, а вместе с тоской одолели меня недуги. Мне отворяли кровь, это не помогло — по-прежнему мучают головная боль и колики в желудке; возможно, виноваты здешний воздух и вода.
Я ожидала получить от вас ответ на свое письмо еще до отъезда отсюда, но теперь надеюсь, что вы напишете мне в Санс. Я пробуду там до 15 сего месяца. Пишите на имя госпожи де Виллет{90}, аббатисы собора Богоматери. Госпожа Болингброк едва не умерла в Реймсе от желудочных колик, коим она подвержена. Положение у нее было отчаянное, теперь ей уже лучше, и я увижу ее в Сансе. Напишите, как чувствуете себя вы, а также госпожа П. Меня беспокоят ее боли в пояснице. Вы, я полагаю, уже возвратились в город и сидите себе на своем уютном диванчике в кругу любимых ваших дочерей, и вся семья спешит повидаться с вами. Вы пользуетесь всеобщей приязнью и уважением, и вам не приходится превозмогать в себе пагубной страсти. Как хотелось бы и мне проводить свои дни подобным образом! Вы знаете всех, кому мне следует передать приветы, — будьте столь добры, передайте их по своему выбору. А вашему супругу я привета не передаю: я заметила, что вы всегда чуточку меня ревнуете. Пусть ваша любезная дочь немного подтрунит над ним от моего имени, она окажет мне этим небольшую услугу, а я в благодарность нежно ее за это обнимаю.
Умерла госпожа де Нель, говорят, будто от кори, но ее закадычные подруги, которые знают всю подноготную, сказывали, что у нее было несколько болезней сразу и что, будь она даже крепче здоровьем, ей все равно было бы не поправиться. Так же обстоит дело с господином де Ришелье, с той разницей, что он-то еще не умер, но, как мне сообщили, уже при смерти. А госпожа д’Омон и ее супруг, у которых была одна только корь, уже выздоравливают. Не помню, писала ли я вам, что господин Ла Феррьер выдает замуж свою дочь за человека, у которого двадцать тысяч ливров ренты и который живет в Лионе. Для ее матери большая радость, что дочь будет от нее поблизости. Родители заслужили эту удачную партию, ведь они до этого отказались выдать дочь за человека хоть и богатого, но уже старого, которого она не смогла бы полюбить! Приданого они дают ей пятьдесят тысяч экю, да еще двадцать тысяч франков после их смерти. Девица эта весьма достойная. Прощайте, сударыня, мне очень было горестно расставаться с вами. Дал бы бог, чтобы я сейчас в самом деле была бы подле вас! Я бы не в силах была тогда снова с вами расстаться. Слишком многого мне это стоило, да и теперь еще стоит, как вспомню об этом. Прощайте, сударыня, я люблю вас всем сердцем. Теперь я буду еще дальше от вас, о чем не могу не сожалеть. Я напишу вам уже из Парижа — в Сансе я слишком буду занята и на письма у меня не будет времени.
ПИСЬМО XXIII
Из Парижа, 17 ноября 1729
Вы спрашиваете у меня подробного отчета о моем возвращении в Париж и пребывании в Сансе. Девочку я нашла изрядно выросшей, но очень уж она бледная. У нее благородные черты, хорошее сложение, глазки такие красивые, что подобных на всем свете не сыщешь, а с виду она слабенькая. Она неглупая, ласковая, разумная, только невероятно рассеянная, но сердце и нрав — удивительные. Мне кажется, безо всякого пристрастия, что из нее выйдет человек достойный. Меня бедняжка любит до безумия, она до того обрадовалась, увидев меня, что едва не лишилась чувств. Вы можете представить себе, что испытала я при виде ее, — волнение мое было тем сильнее, что приходилось его скрывать. Она все без конца повторяла, что у нее не было дня счастливее, чем день моего приезда. Она решительно не в силах была отойти от меня; однако стоило мне только ее отослать, как она кротко повиновалась; всякое мое замечание она внимательно выслушивала и старалась ему следовать. Если случалось ей в чем провиниться, она не пыталась оправдаться, как это обычно делают дети. Увы, когда я уезжала, бедняжка была в таком горе, что я боялась взглянуть на нее, чтобы совсем не расстроиться, — она слова не могла вымолвить от волнения. Я предложила аббатисе ехать со мной, чтобы вместе навестить госпожу Болингброк, которая находилась в Реймсе, где недавно перенесла тяжелую болезнь, и оттуда намеревалась отправиться в Париж. Весь монастырь был опечален сообщением об отъезде аббатисы, а бедная малютка ей сказала: «Я, сударыня, как и все, очень горюю, что вы уезжаете, но ведь это, мне кажется, необходимо — госпожа Болингброк так рада будет видеть вас, ваш приезд пойдет ей на пользу, вот это немного меня утешает». И тут бедняжка залилась слезами и упала на стул, потому что у нее не было сил держаться на ногах, и все обнимала меня, и все говорила: «Как это некстати, добрый мой друг, ведь если бы не это, вы могли бы пожить здесь подольше. У меня нет ни отца, ни матери, прошу вас, будьте вы моей матерью, я люблю вас так же, как если бы вы и в самом деле ею были». Представляете, сударыня, в какое состояние повергли меня ее слова; но держалась я очень хорошо. Пробыла я в Сансе две недели, и там был у меня приступ ревматизма, да такой, что я не могла двинуть ни одним членом. Два дня девочка не отходила от меня ни на шаг. Целых пять часов подряд провела она у моего изголовья, отказываясь покинуть меня, — читала мне вслух, чтобы меня развлечь, разговаривала со мной, а когда временами я погружалась в сон, сидела чуть дыша, боясь меня разбудить. Мало кто из взрослых был бы способен на это. Мадемуазель де Ноайль звала ее поиграть, девочка умоляла позволить ей остаться со мной. Одним словом, сударыня, я уверена, что если бы ей выпало счастье узнать вас, вы не могли бы ее не полюбить. Госпожа Болингброк намерена взять ее с собой и устроить в дальнейшем ее судьбу, что чрезвычайно терзает вы знаете кого, — он от этого просто с ума сходит. Не могу даже описать, как он рад был моему возвращению; все, что только способен сделать и сказать человек в порыве страсти, было сделано и сказано. Если это игра — значит, он хорошо умеет играть. Он несколько раз появлялся здесь, и всякий раз после утомительной и долгой охоты. Наконец, когда он в последний раз испрашивал у короля позволения отлучиться в город (ибо об этом надобно непременно просить у короля), тот полюбопытствовал, что, мол, у него в Париже за дела; этот вопрос привел его в такое замешательство, что он покраснел и ничего другого не нашелся сказать, как что ему это необходимо.