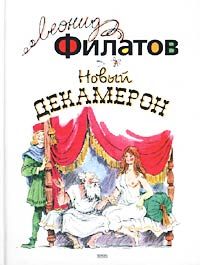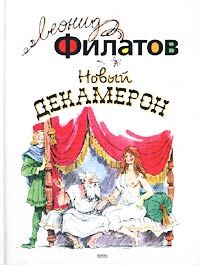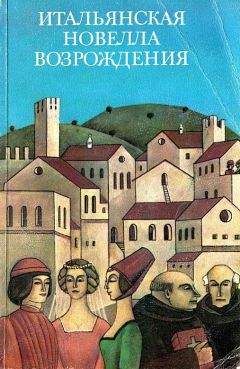Несколько лет спустя после того, как у них родилась дочь, Гвальтьери надумал в последний раз испытать терпение жены и того ради стал говорить направо и налево, что Гризельда ему опостылела, что женился он на ней по молодости лет, необдуманно, а потому будет добиваться от римского папы разрешения на второй брак, Гризельду же он, мол, намерен бросить, за что все добрые люди порицали его, но он отвечал одно: мол, быть по сему. До Гризельды эти разговоры дошли, и, представив себе, что ей, по всей вероятности, предстоит возвратиться в родительский дом и, по всей вероятности, опять пасти овец, а того, в ком полагала она все свое счастье, увидеть в объятиях другой женщины, она глубоко закручинилась, но решилась перенести и эту превратность судьбы с тою же твердостью, с какою переносила все, что ей выпадало на долю.
Некоторое время спустя Гвальтьери пришли из Рима подложные письма, и он всем и каждому их показывал, а в них говорилось, что папа разрешает ему расстаться с Гризельдой и жениться на другой. Наконец Гвальтьери за нею послал и при всех объявил: «Жена! Папа разрешил мне расстаться с тобою и жениться на другой. Предки мои были люди знатные, весь этот край был им подвластен, а твои предки — хлебопашцы, и больше я с тобой жить не хочу; забирай свое приданое и уходи к Джаннуколе, а я найду себе другую, более подходящую жену».
Гризельда, переборов женскую свою природу, с величайшим трудом удержалась от слез. «Я всегда помнила, мой повелитель, — заговорила она, — что я, низкого состояния женщина, не пара такому знатному человеку, как вы. За то, что я находилась при вас, в вашем замке, я должна благодарить бога и вас. То, что я получила в дар, я никогда не почитала и не признавала своим, — я говорила себе, что это дано мне на время. В любую минуту, когда бы вам ни пришла охота что-либо потребовать у меня обратно, я бы это с не меньшей охотой вам возвратила, и сейчас я вам все возвращу. Вот ваше кольцо — возьмите его. Вы велите мне забрать мое приданое. Для этой цели вам не придется посылать за своим казначеем, а мне не понадобятся ни кошелек, ни вьючная лошадь, — ведь я же прекрасно помню, что вы взяли меня в чем мать родила. Если вы почтете приличным, чтобы все увидели тело носившей зачатых от вас детей, я уйду от вас нагая, но все же я бы вот о чем вас попросила: дозвольте мне, не в счет приданого, а в награду за мою непорочность, которую я принесла вам в дар и которой мне уже не вернуть, надеть на себя хотя бы сорочку».
К горлу Гвальтьери подступили рыдания, но он, напустив на себя суровость, сказал: «Можешь надеть».
Все, кто при сем присутствовал, стали просить Гвальтьери выдать ей платье: негоже, мол, той, которая на протяжении тринадцати с лишним лет была ему женою, у всех на глазах с таким позором, в одной сорочке, как нищая, уходить из его дома, однако ж Гвальтьери был неумолим, — жена его, в одной сорочке, босая и простоволосая, простилась со всеми и, выйдя из замка, пошла к отцу, а вслед ей неслись плач и рыдания. Джаннуколе, не веривший в прочность этого брачного союза и со дня на день ожидавший подобной развязки, сберег одежды, которые дочь его сняла с себя в то утро, когда Гвальтьери с ней обручился. Как скоро дочь к нему возвратилась, он ей эту одежду достал, Гризельда ее надела и, стойко перенося тяжкий удар злодейки судьбы, начала, как в былые времена, все делать по дому.
Между тем Гвальтьери распустил слух, будто он женится на дочери графа Панаго, и, приказав готовиться к великому торжеству, послал за Гризельдою. Она явилась, и он ей сказал: «Я собираюсь ввести к себе в дом мою невесту и готовлю ей торжественную встречу. Ты знаешь, что у меня в замке нет таких женщин, которые прибрали бы в комнатах, как подобает перед великим семейным празднеством, и позаботились бы о многом другом. Ты — бесподобная хозяйка, так вот ты и наведи порядок в доме, пригласи, по своему усмотрению, дам, прими их как подобает, а после свадьбы можешь идти домой».
Каждое слово Гвальтьери было для Гризельды как острый нож, ибо со своей участью она примирилась, а вытравить из сердца любовь так и не сумела. «Я все сделаю и все исполню, мой повелитель», — сказала Гризельда. И вот она, в платье грубого сукна войдя в тот дом, откуда недавно вышла в одной сорочке, принялась подметать и убирать в комнатах, распорядилась повесить ковры и положить подстилки, занялась стряпней, не погнушалась самой черной работой, как будто она была последняя служанка в доме, и только тогда позволила себе отдохнуть, когда все было приведено в надлежащее устройство и в надлежащий порядок.
Затем Гризельда в ожидании торжества от имени Гвальтьери созвала со всей округи дам. Когда же настал день свадьбы, Гризельда, несмотря на то что одета она была бедно, нашла в себе мужество встретить их, сохраняя собственное достоинство и с самым приветливым видом. Дети Гвальтьери получили отличное воспитание у его родственницы, вышедшей замуж за графа Панаго; дочери его, красавице писаной, исполнилось к тому времени двенадцать лет, а сыну — шесть; и вот Гвальтьери попросил своего болонского родственника вместе с дочерью его и сыном, с блестящей и почетной свитой пожаловать к нему в Салуццо; и еще Гвальтьери его попросил всем говорить, что он-де везет Гвальтьери невесту, и никому не сообщать, кто она. Граф исполнил просьбу маркиза; пустившись в дорогу, он несколько дней спустя вместе с девушкой, ее братом и почетной свитой прибыл к обеду в Салуццо — здесь невесту ожидала толпа сельчан и соседи Гвальтьери по именью. Дамы проводили ее в залу, где уже были накрыты столы, и тут ее радушно встретила скромно одетая Гризельда «Добро пожаловать, государыня моя!» — сказала она. Дамы, неотступно, но тщетно просившие Гвальтьери дозволить Гризельде уйти в другую комнату либо дать ей на время какой-нибудь из бывших ее нарядов, а то, мол, неприлично ей в таком виде показаться гостям, сели за стол. Все разглядывали невесту и находили, что Гвальтьери сделал удачный обмен. Гризельде тоже очень понравились девушка и ее младший брат.
Наконец-то Гвальтьери достигнул, чего хотел: он познал на опыте, что терпение Гризельды неистощимо; удостоверясь, что сломить ее не удастся, понимая, что эта ее стойкость проистекает не от скудоумия, ибо рассудительность Гризельды была ему хорошо известна, отдавая себе отчет, что на душе у нее, уж верно, лежит печаль и что она только искусно скрывает ее под личиною хладнокровия, он решился сию же минуту снять с ее души это бремя. Того ради он подозвал ее и, улыбаясь, громко спросил: «Ну, как ты находишь невесту?»
«Мне она очень понравилась, мой повелитель, — отвечала Гризельда. — И если она так же умна, как и прекрасна, в чем я совершенно уверена, то, вне всякого сомнения, вы будете наисчастливейшим супругом. Но только я осмелюсь обратиться к вам с просьбой: если можно, не наносите ей ран, какие вы наносили вашей первой жене, — я не уверена, что она перенесет их: она моложе вашей первой жены и воспитана в неге, а та с малолетства привыкла к невзгодам».
Гвальтьери, растроганный тем, что Гризельда нимало не сомневалась в его женитьбе на этой девушке и все же говорила о ней только хорошее, посадил Гризельду рядом с собой и сказал: «Теперь, Гризельда, пора тебе пожать плоды твоего долготерпения; тем же, кто почитал меня за человека жестокого, злого и бессердечного, да будет известно, что у меня была своя цель: я хотел научить тебя быть примерной женой, я хотел научить этих людей выбирать и беречь жену, я хотел обрести на все время нашей с тобою совместной жизни нерушимый душевный покой, а между тем, когда я на тебе женился, я очень боялся, что у меня не будет покоя, — оттого-то, дабы испытать тебя, я, как ты знаешь, и наносил тебе — одну за другой — раны и язвы. Но коль скоро ты никогда ничего не говорила и никогда не действовала мне наперекор и коль скоро я постиг, что ты можешь составить мое счастье, я хочу сразу вернуть тебе все, что отнимал у тебя постепенно, и нежнейшей любовью залечить твои раны. Итак, возвеселись: мнимая моя невеста и брат ее — это наши с тобою дети, которых я будто бы предал лютой смерти, — так долгое время считала ты и многие другие, — а я — твой муж, и люблю я тебя больше всего на свете и, верно уж, могу похвалиться, что в целом мире нет человека, который был бы так доволен своею женою, как я».
Тут Гвальтьери обнял Гризельду, расцеловал, она заплакала от радости, затем оба встали, подошли к замершей от изумления дочке, ласково обняли и ее, и сына и тем самым покончили с заблуждением, в коем все присутствовавшие находились. Дамы, обрадовавшись, встали из-за стола и, пройдя с Гризельдой к ней в комнату, с еще бо́льшим восторгом, чем когда убирали ее к венцу, совлекли деревенский ее наряд, вместо него надели господский и торжественно, как госпожу (впрочем, госпожою казалась она и в отрепьях), снова вывели ее в залу. Гризельда не могла наглядеться на своих детей, все кругом радовались, веселье все росло и росло, празднество длилось несколько дней. Общее мнение было таково, что Гвальтьери человек умнейший, что испытания, коим он подверг супругу, жестоки и бесчеловечны, а что Гризельда еще умнее его. Граф Панаго спустя несколько дней возвратился в Болонью. Гвальтьери больше не позволил Джаннуколе хлебопашествовать и всем его обеспечил; с той поры Джаннуколе жил в почете и припеваючи, как подобает тестю маркиза, и умер в глубокой старости. А Гвальтьери приискал для своей дочери завидную партию; супругу же свою Гризельду он необычайно высоко чтил и жил с нею долго и счастливо.