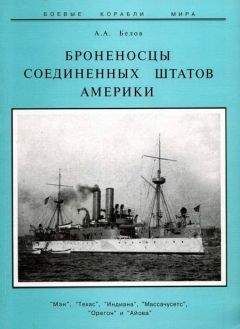Глава II
Чего ради выступаю я сегодня в несвойственном мне обличии, об этом вы узнаете, ежели будете слушать внимательно, — не так, как слушают церковных проповедников, но как внимают рыночным скоморохам, шутам и фиглярам, или так, как наш друг Мидас{113} слушал некогда Пана. Ибо захотелось мне появиться перед вами в роли софиста, но только не одного из тех, которые ныне вколачивают в головы мальчишкам вредную чушь и научают их препираться с упорством, более чем бабьим. Нет, я хочу подражать тем древним грекам, которые, избегая позорной клички мудрецов, предпочли назваться софистами{114}. Их тщанием слагались хвалы богам и великим людям. И вы тоже услышите сегодня похвальное слово, но не Гераклу и не Солону{115}, а мне самой, иначе говоря — Глупости.
Воистину не забочусь я нисколько о тех любомудрах, которые провозглашают дерзновеннейшим глупцом всякого, кто произносит хвалы самому себе. Ладно, пусть это будет глупо, если уж им так хочется, — лишь бы зазорно не было. Кому, однако, как не Глупости, больше подобает явиться трубачом собственной славы и αὐτή έαυτήν αὐλῆ?[11] Кто может лучше изобразить меня, нежели я сама? Разве что тот, кому я известна ближе, нежели себе самой! Сверх того, действуя таким образом, я почитаю себя скромнее большинства великих и мудрых мира сего. Удерживаемые ложным стыдом, они не решаются выступить сами, но вместо того нанимают какого-нибудь продажного ритора или поэта-пустозвона, из чьих уст выслушивают похвалу, иначе говоря — ложь несусветную. Наш смиренник распускает хвост, словно павлин, задирает хохол, а тем временем бесстыжий льстец приравнивает этого ничтожного человека к богам, выставляет его образцом всех доблестей, до которых тому, δίς διά πασῶν[12], далеко, наряжает ворону в павлиньи перья, τὸν Αἰϑίοπα λευϰαίνει и ἐϰ μύας ἐλέφαντα ποιεῖ[13]. Наконец, я применяю на деле народную пословицу, гласящую: «Сам выхваляйся, коли люди не хвалят». Не знаю, чему дивиться — лености или неблагодарности смертных: хотя все они меня усердно чтут и охотно пользуются моими благодеяниями, никто, однако, в продолжение стольких веков не удосужился воздать в благодарственной речи похвалу Глупости, тогда как не было недостатка в охотниках сочинять, не жалея лампового масла и жертвуя сном, напыщенные славословия Бусиридам, Фаларидам{116}, перемежающимся лихорадкам, мухам, лысинам и тому подобным напастям. От меня же вы услышите речь, не подготовленную заранее и не обработанную, но зато тем более правдивую.
Не хотелось бы мне, чтобы вы заподозрили меня в желании блеснуть остроумием по примеру большинства ораторов. Ведь те — дело известное, — когда читают речь, над которой бились лет тридцать, а иногда так и вовсе чужую, дают понять, будто сочинили ее между делом, шутки ради, в три дня, или просто продиктовали невзначай. Мне же всегда особенно приятно было говорить то, ὃττι ϰεν έπ’ άϰαιρίμαν γλῶτταν ἔλϑη[14]. И да не ждет никто, чтобы я по примеру тех же заурядных риторов стала предлагать вам здесь точные определения, а тем более разделения. Ибо как ограничить определениями ту, чья божественная сила простирается так широко, или разделить ту, в служении которой объединился весь мир? Да и вообще, к чему выставлять напоказ тень мою или образ, когда вот я сама стою здесь перед вами? Видите? Вот я, Глупость, щедрая подательница ἐάων[15], которую латиняне зовут Стультицией, а греки Морией.
Да и вообще — нужны ли здесь слова? Разве само чело мое и лик, как говорится, не достаточно свидетельствуют о том, кто я такая? Если бы кто даже и решился выдать меня за Минерву или за Софию, мое лицо — правдивое зеркало души — опровергло бы его без долгих речей. Нет во мне никакого притворства, и я не стараюсь изобразить на лбу своем то, чего нет у меня в сердце. Всегда и всюду я неизменна, так что не могут скрыть меня даже те, кто изо всех сил старается присвоить себе личину и титул мудрости, — эти ϰαί ἐν τῆ πορφύρα πίϑηϰοι ϰαί ἐν τη λεοντῆ ὄνοι[16]. Пусть притворствуют как угодно: торчащие ушки все равно выдадут Мидаса. Неблагодарна, клянусь Гераклом, и та порода людей, которая всего теснее связана со мною, а между тем при народе так стыдится моего имени, что даже попрекает им своих ближних, словно бранною кличкой. Эти μωρότατοι[17]хотят прослыть мудрецами и Фалесами{117}, но можно ли назвать их иначе, как μωροσόφοι?[18]
Как видите, мне действительно захотелось подражать риторам нашего времени, которые считают себя уподобившимися богам, если им удается прослыть двуязычными{118}, наподобие пиявок, и которые полагают верхом изящества пересыпать латинские речи греческими словечками, словно бубенцами, хотя бы это и было совсем некстати. Если же не хватает им заморской тарабарщины, они извлекают из полуистлевших грамот несколько устарелых речений, чтобы пустить пыль в глаза читателю. Кто понимает, тот тешится самодовольством, а кто не понимает, тот тем более дивится, чем менее понимает. Ибо нашей братии весьма приятно бывает восхищаться всем иноземным. А ежели среди невежественных слушателей и читателей попадутся люди самолюбивые, они смеются, рукоплещут и, на ослиный лад, τἀ ώτα ϰινῶσι[19], дабы другие не сочли их несведущими. ϰαί ταῦτα δή μέν ταῦτα[20].
Теперь возвращаюсь к главному предмету моей речи.
Итак, мужи… каким бы эпитетом вас почтить? Ах да, конечно: мужи глупейшие! Ибо какое более почетное прозвище может даровать богиня Глупость сопричастникам ее таинств? Но поскольку далеко не всем известно, из какого рода я происхожу, то и попытаюсь изложить это здесь с помощью Муз. Родителем моим был не Хаос, не Орк, не Сатурн, не Иапет{119} и никто другой из этих обветшалых, полуистлевших богов, но Πλοῦτος[21]{120}, который, не во гнев будь сказано Гомеру, Гесиоду{121} и даже самому Юпитеру, есть единственный и подлинный πατήρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε[22]{122}. По его мановению в древности, как и ныне, свершалось и свершается все — и священное и мирское. От его приговоров зависят войны, мир, государственная власть, советы, суды, народные собрания, браки, союзы, законы, искусства, игрища, ученые труды… — вот уж и дыхания не хватает, — коротко говоря, все общественные и частные дела смертных. Без его содействия всего этого племени поэтических божеств — скажу больше: даже верховных богов — вовсе не было бы на свете, или они ὀιϰόσιτοι[23] самым жалким образом. На кого он прогневается, того не выручит и сама Паллада. Напротив, кому он благоволит, тому и дела нет до Юпитера с его громами. Τούτου πατρὸς εὔχομαι εῖναι[24]. И породил он меня не из головы своей, как некогда Юпитер эту хмурую, чопорную Палладу, но от Неотеты{123}, самой прелестной и веселой из нимф. И не в узах унылого брака, как тот хромой кузнец{124}, родилась я, но — что не в пример сладостнее — ἐν φιλότητι μιχϑείς[25], пользуясь словами нашего милого Гомера. И сам отец мой, должно вам знать, был в ту пору не дряхлым полуслепым Плутосом Аристофана{125}, но ловким и бодрым, хмельным от юности, а еще больше — от нектара, которого хлебнул он изрядно на пиру у богов.
Если вы спросите о месте моего рождения, — ибо в наши дни благородство зависит прежде всего от того, где издал ты свой первый младенческий крик, — то я отвечу, что не на блуждающем Делосе{126}, и не среди волнующегося моря, и не ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι[26] родилась я, но на тех Счастливых островах, где ἄσπαρτα ϰαί ἀνήροτα[27], а в житницы собирают. Там нет ни труда, ни старости, ни болезней, там на полях не увидишь асфоделей, мальв, морского луку, волчцов, бобов и тому подобной дряни, но повсеместно глаза и обоняние твои ласкают молий{127}, панацея{128}, непента, майоран, бессмертники, лотосы, розы, фиалки и гиацинты, достойные садов Адонисовых{129}. Рожденная среди этих услад, не с плачем вступила я в жизнь, но ласково улыбнулась матери. Право, не завидую я τῷ ὑπάτῳ ϰρονίωνι[28]{130}, вскормленному козой, — ведь меня питали своими сосцами две прелестные нимфы — Метэ{131}, рожденная Вакхом, и Апедия{132}, дочь Пана. Обеих вы видите в толпе моих спутниц и наперсниц. А если вам угодно знать имена всех прочих, то — клянусь Гераклом! — я назову их не иначе, как по-гречески.
Вот эта, с горделиво поднятыми бровями, — Φιλαυτία[29]. Та, что улыбается одними глазами и плещет в ладоши, носит имя ϰολαϰία[30]. А эта, полусонная, словно дремлющая, зовется Λήϑη[31]. Эта, что сидит со сложенными руками, опершись на локти, — Μισοπονία[32]. Эта, увитая розами и опрысканная благовониями, — Ἡδονή[33]. Эта, с беспокойно блуждающим взором, называется Ἂνοια[34]. Эта, с лоснящейся кожей и раскормленным телом, носит имя Τρυφή[35]. Взгляните еще на этих двух богов, замешавшихся в девичий хоровод: одного из них зовут ϰῶμον[36], а другого — Νήγρετον ῎ϒνον[37]. С помощью этих верных слуг я подчиняю своей власти весь род людской, отдаю повеления самим императорам.