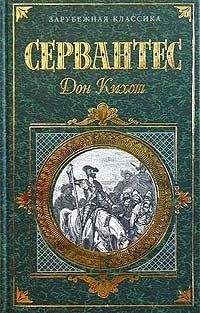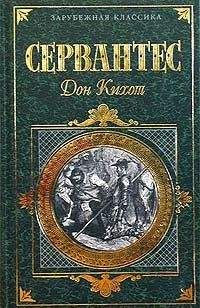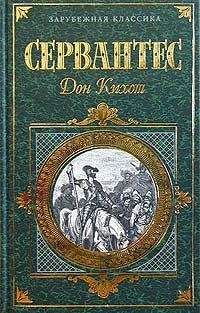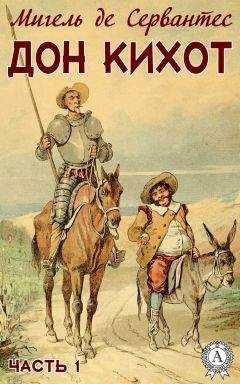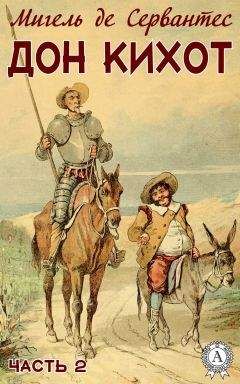В эту минуту тент спустили и большую мачту опрокинули с ужасающим шумом, Санчо подумал, что небо соскочило со своих петель и обрушивается на его голову, так что, весь в ужасе, он спрятал голову между ног. Сам Дон-Кихот не сумел сохранить хладнокровия: он тоже задрожал, сдвинул плечи и побледнел. Каторжники подняли мачту с такой же быстротой и шумом, какой она сама прежде произвела, но в полном молчании, как будто у этих людей не было ни голосов, ни дыхания. Смотритель дал сигнал поднять якорь и, бросившись на средину палубы, с плетью из бычачьих жил в руке, он принялся бить каторжников по плечам, и галера тотчас же вышла в море.
Санчо сказал про себя, когда увидал, как все эти красные ноги, какими ему казались весла, поднялись зараз. – Вот действительные чудеса, а не те, о которых рассказывает мой господин. Но что, такое сделали эти несчастные, что их так стегают? И как этот человек, расхаживающий себе со свистом, имеет смелость один бить стольких людей? Ах, я уверен, что здесь именно ад или, по меньшей мере, чистилище. – Дон-Кихот, увидав, с каким вниманием Санчо смотрел на происходящее, поспешил сказать ему: – Ах, Санчо, друг мой, с какой легкостью и с какой быстротой вы могли бы, если бы захотели, раздеться от пояса до шеи и поместиться между этими господами, чтобы покончить с освобождением Дульцинеи от чар! Среди мук и страданий стольких людей вы бы не очень почувствовали ваши собственные страдания. Возможно, что мудрый Мерлин счел бы каждый из этих ударов плетью, нанесенных сильной рукой, за десять тех ударов, которые вам еще остается нанести себе.
Генерал хотел спросить, что это за удары плетью и что за освобождение от чар, как вдруг вахтенный закричал: – Форт Монхуичсий подает сигнал, что к западу у берега находится одно весельное судно. – При этих словах генерал соскочил с междупалубного пространства: – Вперед, дети, – сказал он, – чтобы оно от нас не ушло. Это должна быть об алжирском разбойничьем бриге говорить часовой на верху мачты. – Три другие галеры приблизились к главной, чтобы узнать, что им надлежит делать. Генерал приказал двум из них идти в открытое море, тогда как он с оставшейся галерой пойдет вдоль берега, чтобы бриг не мог ускользнуть от них. Каторжники налегли на весла, с такой силой подвигая этим галеры, что они, казалось, летели по воде. Галеры, ушедшие в открытое море, милях в двух расстояния увидали судно, которое с первого взгляда показалось четырнадцати или пятнадцативесельным, что и было верно. Заметив приближение галер, судно это стало удаляться с намерением и надеждой скрыться благодаря своей легкости. Но это ему не особенно удалось, потому что главная галера была одним из быстроходнейших морских судов. Она так быстро шла вперед, что люди с брига тотчас увидали, что им не спастись. Поэтому арраэц[310] приказал оставить весла и сдаться, чтобы не раздражить командующего нашими галерами. Но судьба распорядилась иначе: в ту минуту, как главная галера подошла так близко, что бывшие на бриге слышали, как им кричали, чтобы они сдались, двое пьяных турок, находившихся на бриге с двенадцатью другими турками, выстрелили из своих пищалей и смертельно ранили двоих из наших матросов, находившихся на обшивной доске. Увидав это, генерал поклялся, что не оставит в живых ни одного из людей, которых найдет на бриге. Он с бешенством напал на него, но маленькое судно увернулось от удара, галера ушла от него вперед на несколько узлов. Считая себя погибшими, люди на бриге развернули паруса, пока галера поворачивала обратно, потом, под парусами и веслами, стали снова спасаться бегством. Но их старания не могли помочь им настолько, насколько повредила им их дерзость, потому что главная галера настигла их в полумиле расстояния, притянула бриг к себе веслами и всех захватили живыми. Другие галеры подошли в ту же минуту, и все вместе вернулись со своей добычей к берегу, где их ожидало множество народа, интересовавшегося тем, что они привезли. Генерал бросил якорь недалеко от берега и заметил, что вице-король города[311] находится на пристани. Он велел спустить ялик на воду, чтобы отправить его за вице-королем, поднять мачту, чтобы повесить на ней арраэца и других турок, взятых на бриге, число которых достигало тридцати шести: все они были красивые люди, и большинство из них – с ружьями.
Генерал спросил, кто был арраэцом на бриге; один из пленных, в котором потом узнали испанского ренегата, отвечал по-кастильски: – Этот молодой человек, господин, которого ты так видишь, и есть ваш арроэц, – и он указал на самого красивого и самого милого мальчика, какого человеческое воображение способно себе представить. Ему, по-видимому, не было и двадцати лет. – Скажи мне, безрассудная собака, – спросил его генерал, – кто тебя понудил убить моих солдат, когда ты видел, что спастись невозможно? Как ты осмелился оказать такое неуважение главной галере? Разве ты не знаешь, что дерзость не храбрость? Сомнительные надежды могут сделать человека отважным, но не дерзким.
Арраэц хотел ответить, но генерал не дождался его ответа, потому что побежал встречать вице-короля, который вступил на галеру в сопровождении нескольких из своих подчиненных и других лиц из города. – Вы поймали хорошую добычу, господин генерал! – сказал вице-король. – Очень хорошую, действительно, – отвечал генерал, – и ваше превосходительство увидите ее повешенною на этой мачте. – Почему повешенною? – спросил вице-король. – Потому что они убили, – отвечал генерал, – противно всяким законам, всякому основанию и всякому обычаю, двух лучших моих солдат, какие когда-либо были на галерах, поэтому я поклялся вздернуть на виселицу всех, кого я возьму, особенно же этого молодого парня, который был арраэцом на бриге. – При этом он указал на молодого человека со связанными руками и с веревкой на шее, ожидающего смерти. Вице-король взглянул на него и, увидав такого красивого, так хорошо сложенного и столь покорного судьбе мальчика, почувствовал себя тронутым жалостью, и у него явилось желание спасти его. – Скажи мне, арраэц, – спросил он его, – какой ты нации? Турок, мавр или ренегат? – Я ни турок, – отвечал юноша по-кастильски, ни мавр, ни ренегат. – Кто же ты? – продолжал вице-король. – Женщина христианка, – отвечал юноша. – Женщина христианка в таком наряде и в таком деле! Этому можно удивиться, но поверить никак нельзя! – Отложите, о господа, – заговорил снова юноша, – отложите мою казнь; вы ничего не потеряете, если отсрочите свою месть на то короткое время, которое понадобится для рассказа о моей жизни. – У кого могло быть столь жесткое сердце, чтобы не смягчиться от этих слов, по крайней мере, настолько, чтобы выслушать, что скажет этот молодой человек? Генерал отвечал, что он может говорить, что хочет, но чтобы он не надеялся добиться прощения за столь явный проступок. Получив это позволение, молодой человек начал так:
– Я принадлежу к той более несчастной, нежели благоразумной нации, на которую в последнее время дождем сыплются несчастия. Мои родители мориски. Во время ваших бедствий меня увезли двое моих дядей в Берберию, и мне не помогло, что я говорила, что я христианка, каковою я и есть на самом деле, не из тех, которые притворяются христианами, а из самых искренних и самых благочестивых. Я тщетно говорила эту правду: люди, которым поручено было выселить нас, не слушали меня, как не хотели этому верить и мои дяди; они приняли это за ложь, выдуманную с целью остаться в стране, где я родилась. Таким образом, они увезли меня насильно, против моей воли. Моя мать была христианка, и отец имел благоразумие быть им, я с молоком матери всосала в себя католическую веру: я была воспитана в доброй нравственности; никогда ни по языку, ни по обычаям, мне кажется, я не выдавала, что я мориска. В то же время эти добродетели, потому что я считаю это добродетелями, увеличивали и мою красоту, если она у меня есть, и хотя я росла в уединении, но не в очень строгой замкнутости, так что у меня был случай увидать одного молодого человека по имени Гаспар Грегорио, старшего сына одного дворянина, имение которого было совсем поблизости от нашей деревни. Как мы увидались, как поговорили, как он безумно влюбился в меня, а я почти так же в него, это было бы слишком долго рассказывать, особенно потому, что я боюсь, как бы угрожающая мне жестокая веревка не отделила моего языка от моего горла. Я скажу только поэтому, что Дон Григорио хотел последовать за мною в нашу ссылку. Он замешался в среду морисков, изгнанных из других мест, потому что очень хорошо знал их язык, и во время этого путешествий сдружился с обоими дядями, которые увозили меня с собою. Мой отец, человек осторожный и догадливый, при первом слухе о приказе относительно нашего изгнания, покинул страну и стал искать для нас убежища в иностранных государствах. Он зарыл в земле, в таком месте, которое знаю одна лишь я, много драгоценных камней и жемчужин большой ценности, а также крузад и дублонов на большую сумму. Он приказал мне не дотрагиваться до сокровищ, которые он оставляет, в случае если нас вышлют раньше, нежели он возвратится. Я повиновалась ему и последовала в Берберию со своими дядями, другими родственниками и знакомыми. Бежали мы в Алжир, а это то же самое, как если бы мы вздумали искать прибежище в самом аду. Дей услыхал, что и хороша; слух донес ему и славу о моих богатствах, и последнее послужило мне к счастью. Он призвал меня к себе и спросил меня, в какой части Испании я родилась и какие деньги и какие драгоценности привезла с собой. Я ему назвала свою родину и прибавила, что деньги и драгоценности остались зарытыми в землю, но что их легко будет получить, если я сама за ними отправлюсь. Я сказала это затем, чтобы его алчность ослепила его больше, нежели моя красота. Во время этого разговора ему пришли сказать, что меня сопровождал один из прекраснейших молодых людей, какого только можно себе представить. Я тотчас догадалась, что речь идет о Дон Гаспаре Грегорио, красота которого действительно превосходит все, что наиболее превозносится. Дей отдал приказ, чтобы его немедленно привели к нему, и спросил меня, правда ли то, что говорят об этом молодом человеке. Но я, как будто само небо внушило мне, отвечала ему, не колеблясь: – Да, это правда; но я должна вам сказать, что это не юноша; это такая же женщина, как и я. Позвольте мне, умоляю вас, отправиться и одеть ее в ее природное платье, чтобы она без стеснения появилась пред вами. – Он отвечал, что согласен и что на другой день мы обсудим средства к тому, чтобы мне отправиться в Испанию за зарытыми сокровищами. Я поспешила к Гаспару, чтобы поговорить с ним, я рассказала ему, какая ему грозит опасность, если он явятся к ней в мужском платье. Я одела его женщиной мавританкой и в тот же вечер отвела его к ней, который пришел от него в восторг и решил удержать у себя эту молодую девушку, чтобы принести ее в подарок турецкому султану. Но чтобы освободить ее от опасности, которой она могла подвергнуться даже от него самого в серале его женщин, он приказал, чтобы ее отдали на хранение и к услугам знатных мавританских дам, к которым Дон Грегорио и был тотчас отведен. О горе, которое мы оба при этом испытали, потому что я не могу отрицать, что люблю его, и предоставляю судить людям, которым приходилось расставаться, нежно любя друг друга. Дей тотчас после того решил, что я возвращусь в Испанию на бриге, в сопровождении тех самых двух турок, которые убили ваших солдат. Меня сопровождал также и этот испанский ренегат, – продолжала она, указывая на того, который говорил первым, – от которого я знаю, что он христианин в глубине своей души и что едет он с желанием скорее остаться в Испании, нежели возвратиться в Берберию. Остальной экипаж состоит из турок и мавров, которые служат только для гребли. Оба турка, дерзкие и жадные, вопреки приказу высадить нас, меня и этого ренегата, на землю на первом испанском берегу и в христианской одежде, которою нас снабдили, захотели сперва пристать к этому побережью и захватить, если можно, какую-либо добычу, опасаясь, если они сперва спустят нас на землю, чтоб с вами не случилось чего-нибудь такого, что открыло бы, что судно их лежит в дрейфе, и их не взяли бы тотчас в плен, если у берега окажутся галеры. Вчера вечером мы подошли к этому берегу, не зная об этих четырех галерах, сегодня нас открыли, и с нами произошло то, что вы видели. В конце концов, Грегорио остается в женской одежде между женщинами и в неминуемой опасности для своей жизни, а я нахожусь здесь со связанными руками, ожидая смерти, которая избавит меня от страданий. Вот, господа, конец этой плачевной истории, столь же истинной, сколько и исполненной бедствий. Я прошу вас об одной милости: дайте мне умереть христианкой, потому что, как я сказала, я отнюдь не разделяю вины моих соплеменников. – После этих слов она замолчала, с глазами полными горьких слез, к которым примешался плач большинства присутствующих.