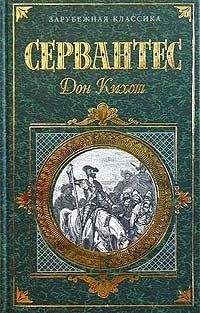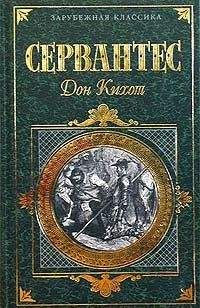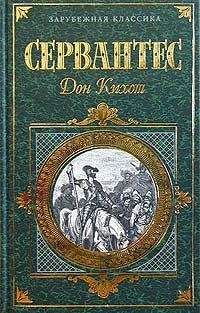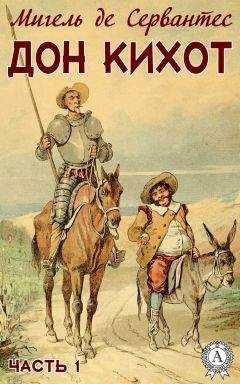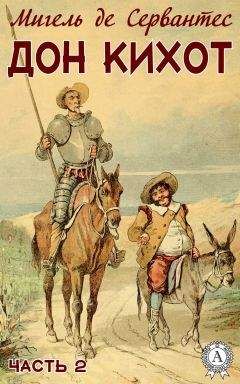Кто не изумился бы при виде таких странных вещей, особенно если прибавить к этому, что Дон-Кихот узнал в распростертом на катафалке трупе прекрасную Альтисидору? Когда герцог и герцогиня взошли на подмостки, Дон-Кихот и Санчо отвесили им по глубокому поклону, на которые благородная чета ответила легким наклонением головы. Тут явился гайдук и, подойдя к Санчо, накинул ему на плечи длинное черное баркановое платье, испещренное нарисованными огоньками, потом снял с него шляпу и покрыл ему голову длинной, остроконечной митрой, вроде тех, которые носят осужденные инквизицией, причем сказал ему на ухо, чтоб он не разжимал губ, иначе ему заткнут рот кляпом или убьют на месте. Санчо оглядел себя сверху донизу и увидал себя всего в огоньках, но так как огни эти не жгли его, то он и не обращал на них вы малейшего внимания. Он снял митру и увидал, что она вся покрыта нарисованными чертями; тогда он опять надел ее и пробормотал про себя: – Ладно, но крайности те меня не жгут, а эти не уносят. – Дон-Кихот также смотрел на него и, невзирая на то, что все чувства его были парализованы ужасом, не мог удержаться, чтоб не расхохотаться при виде фигуры Санчо.
В это время из-под катафалка послышались приятные, тихие звуки флейт, которые, не будучи нарушаемы ни одним человеческим голосом – ибо в этом месте даже тишина молчала, – раздавались нежно и уныло. Вдруг около подушки, на которой лежал труп, появился прекрасный молодой человек, одетый римлянином, и приятным, звучным голосом пропел под аккомпанемент арфы, на которой сам играл, следующие стансы:
Пока в себя придет Альтисидора,
Сраженная презреньем Дон-Кихота,
Пока в цвета печального убора,
Оденет дам о трауре забота,
Дуэньям креп велит надеть синьора
И будет скрыта черным позолота, —
Я воспою прекрасной огорченье,
Как Фракии певца то было б пенье.
Я думаю, что я к тому обязан
Не только в этой жизни скоротечной:
Пускай язык мой будет смертью связан,
Я буду петь тебя за гробом вечно.
Когда мне к Стиксу будет путь указан,
Чтоб мне в аду томиться бесконечно,
Я стану петь тебе на прославленье,
И Леты тем остановлю теченье.[332]»
Довольно, – сказал в эту минуту один из царей: – довольно, певец, ты никогда не кончишь, если станешь описывать нам теперь смерть и прелести бесподобной Альтисидоры, которая не умерла, как воображает невежественный свет, а живет в тысяче языках славы и в испытании, которое должен будет нести присутствующий здесь Санчо Панса, чтоб вернуть ей свет. Поэтому, о, Радамант, ты, который судишь вместе со мной в мрачных пучинах судеб и знаешь все, что написано в непроницаемых книгах, чтоб вернуть эту молодую девушку к жизни, скажи нам сейчас же, что делать, и не лишай нас долее счастья, которого мы ждем от ее возвращения в мир.
Едва Минос произнес эти слова, как его товарищ Радамант поднялся и сказал: – Эй вы, слуги этого дома, высокие и низкие, большие и малые, бегите сюда скорее один за другим! Дайте Санчо двадцать четыре щелчка по лицу, ущипните ему двенадцать раз руки и сделайте ему шесть булавочных уколов в поясницу: в этом заключается излечение Альтисидоры. – Услышав это, Санчо закричал, забыв, что должен молчать: – Божусь, что так же дам свое лицо на муку и тело на растерзание, как сделаюсь турком. Боже мой! Что общего между моей шкурой и воскресением этой барышни? Уж подлинно, посади свинью за стол, она и ноги на стол. Дульцинея очарована, так меня стегают, чтоб снять с нее чары. Альтисидора умирает от болезни, которую Богу угодно было, послать ей, и вот, чтоб ее воскресить, понадобилось дать мне двадцать четыре щелчка, исколоть мое тело булавками и исщипать мне до крови руки! Слуга покорный! Поищите кого другого, а я старая лисица и провести себя не дам. – Так ты умрешь! – проговорил ужасным голосом Радамант. Смягчись, тигр! Смирись, гордый Немврод! Терпи и молчи, ибо от тебя не требуют ничего невозможного, и не берись перечислять трудностей этого дела. Ты должен получить щелчки, ты должен быть исколот булавками, ты должен стонать под щипками. Ну же, говорю я, исполнители приказов, к делу, не то, честное слово, я научу вас понимать, для чего вы рождены!
Шесть дуэний сейчас же показались во дворе и стали приближаться одна за другой, и четверо из них были в очках. У всех у них правая рука была поднята кверху с вытянутыми вперед четырьмя пальцами, чтоб руки казались длиннее, как требует мода. Едва Санчо увидал их, как замычал по-бычьи. – Нет, нет, – кричал он, – я лучше дам кому угодно мучить и терзать меня, но никогда не позволю, чтоб до меня дотронулась дуэнья! Пусть мне исцарапают лицо, как кошки исцарапали моего господина в этом самом замке; пусть исколют мое тело острыми кинжалами; пусть изорвут мне руки железными щипцами; я все снесу и покорюсь этим господам, но чтоб дуэньи до меня дотронулись – нет, этого я не потерплю, хотя бы черт меня побрал!
Тут Дон-Кихот нарушил молчание и сказал Санчо: – Потерпи, сын кой, и доставь удовольствие этим господам. Ты должен еще благодарить небо, что оно дало тебе такую силу, что ты своим мученичеством снимаешь чары с очарованных и воскрешаешь мертвых. – Дуэньи уже успели приблизиться к Санчо. Сдавшись на увещания и смягчившись, он поудобнее уселся на своем стуле и протянул подбородок первой из них, которая дала ему довольно умеренный щелчок и затем низко присела перед ним. – Поменьше учтивостей, госпожа дуэнья, – сказал ей Санчо, – и поменьше духов, потому ваши руки пахнут, ей Богу, розовым уксусом. – Все дуэньи дали ему по щелчку, потом другая прислуга исщипала ему руки, но, когда дело дошло до булавочных уколов, он не выдержал. Вскочив со стула вне себя от ярости и схватив ближайший к нему факел, он бросился на дуэний и остальных своих палачей и закричал: – Прочь отсюда, слуги ада! Я не бронзовый, чтоб не чувствовать таких ужасных пыток!
В эту минуту Альтисидора, по-видимому, утомленная долгим лежанием на спине, повернулась на бок. При виде этого, все присутствующие разом закричали: «Альтисидора жива!» Радамант приказал Санчо успокоить свой гнев, так как результат, которого ждали, уже получился. Что касается Дон-Кихота, то увидя движение Альтисидоры, он бросился на колени перед Санчо и вскричал: – Вот подходящий момент, о, сын моей утробы, а не оруженосец, вот подходящий для тебя момент, чтоб дать себе несколько ударов бичом из тех, которые ты должен нанести себе для снятия чар с Дульцинеи. Вот подходящий момент, говорю я, когда твоя сила в полном блеске и наиболее способна творить добро, которого от тебя ожидают! – Это, – ответил Санчо, – уж похоже на злобу со злобой, а не на хлеб с медом. Славно было бы, нечего сказать, если бы после щелчков, щипков и булавочных уколов еще посыпались удары бичом! Мне остается только одно: привязать себе на шею большой камень и броситься в воду, если я вечно должен для излечения чужих болезней быть козлом отпущения. Оставьте меня, ради Бога, а не то я натворю тут дел!
Между тем, Альтисидора поднялась на катафалке, и в ту же минуту зазвучали рожки, вторя флейтам и голосам всех присутствовавших, которые закричали: – Да здравствует Альтисидора! Да здравствует Альтисидора! – Герцог и герцогиня поднялись со своих мест, а за ними поднялись и цари Минос и Радомант, и все вместе, не исключая и Дон-Кихота с Санчо, пошли к катафалку, чтобы помочь Альтисидоре сойти с него. Эта последняя, делая вид, что очнулась от долгого обморока, поклонилась своим господам и обоим царям, потом, косо взглянув на Дон-Кихота, сказала: – Да простит тебя Бог, бесчувственный рыцарь, что твоя жестокость заставила меня отправиться на тот свет, где я оставалась, как мне казалось, более тысячи лет. Тебя же, о, сострадательнейший изо всех оруженосцев мира, благодарю за возвращенную мне жизнь. Отныне можешь располагать навсегда, о, Санчо, шестью из моих сорочек, которые я завещаю тебе, чтоб ты сделал себе из них шесть сорочек для себя. Если они и не совсем новы, то, по крайней мере, совсем чисты. – Санчо, преисполненный благодарности, поцеловал у нее руку, держа митру в руке, точно шляпу, и преклонив оба колена. Герцог приказал, чтоб у него взяли эту митру и сняли платье, вышитое огоньками и чтоб ему возвратили его шляпу и кафтан. Тогда Санчо попросил у герцога позволения взять себе это платье и митру,[333] говоря, что он хочет увезти их в себе в деревню в знак и в память этого удивительного приключения. Герцогиня ответила, что дарит ему их, потому что она, как ему известно, очень расположена к нему. Герцог приказал, чтоб двор очистили от всего этого убранства, чтоб все разошлись по своим комнатам и чтоб Дон-Кихота и Санчо отвели в известные уже им покои.
ГЛАВА LXX
Которая следует за шестьдесят девятой и очень важна для уразумения этой истории
Эту ночь Санчо спал на походной кровати в комнате Дон-Кихота, чего ему очень хотелось избежать, так как он знал, что его господин своими вопросами и разговорами не даст ему спать; а между тем он вовсе не был расположен много разговаривать, потому что боли от перенесенных пыток еще продолжали терзать его и не давала ему свободно двигать языком. Поэтому он бы охотнее лег один в хижине пастуха, чем в такой компании в этом богатом покое.