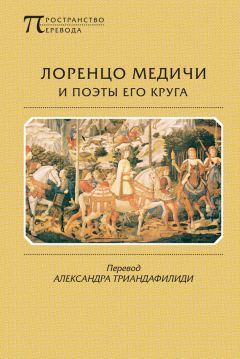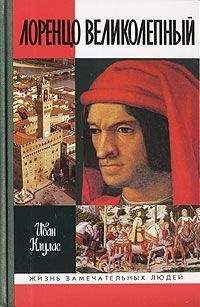Канцона
С тех пор как с милым Лавром я в разлуке,
Утратив счастье, благо, мой Парнас,
Кумира, светоч и отраду рая,
С ним не расстался в мыслях ни на час,
«Что толку, – говорю себе я в муке, —
Что верен, коль его уж не встречаю?»
Едва ли обретаю
Я силы дать ответ прямой и ясный
О том, как я тесним судьбой злосчастной,
И ею праздный помысел взлелеян;
Затем был мрак развеян,
Когда рассудок снова я обрел
И меру осознал постигших зол;
Тогда возжаждал я уединенья,
Брел по лесу, унылый и печальный,
Пока о камень скальный
Не оперся, воззвав душой в смятеньи;
И плакал я, не ведая в кручине,
Я жив или мертвец уже отныне.
Вдруг издалече речь ко мне несется:
«Юнец, тебя узнала, мнится мне»;
И голосом подавленным и томным:
«Не видел ли ты в этой стороне,
Как юноша на белом иноходце
Промчался через лес в наряде темном?»
Тем криком неуемным
Нарушилось мое забвенье вскоре,
Не верил я, как бы в падучей хвори,
Что предо мной Деиопея – диво;
Как Иов, терпеливый,
Глазам своим поверил я с трудом.
И, подойдя, ей так сказал потом:
«Напрасно ищешь в зарослях колючих
Двух обреченных крест нести единый».
Глас отвечал невинный:
«Покуда, как Эгерия, от жгучих
Я не истаю мук, я плачу, стражду
И говорить с тобою, путник, жажду».
Зрю ссадины на коже белоснежной,
Царапины на розовых ногах,
Она – голубка из небесной дали
В терновнике, на ранящих камнях;
Власы у ней как у Венеры нежной,
В которых гибель люди обретали;
Мне сердце разрывали
Рыданий жарких горестные всхлипы,
Что даже адамант смягчить могли бы,
Оникс и сардоникс, агат с опалом,
И аспидовым жалом
Оно сжигалось, словно лед весной.
И севши тут, со стороны десной,
Продолжила: «Погибнуть мне в расцвете
Коль суждено, избавит смерть от муки;
Он клялся, что в разлуке
Не станет часа жить на этом свете.
О нем лишь говорить теперь я рада,
А сердцу в горе выплакаться надо.
С презреньем, с гневом сколько раз боролась,
Когда, с каким уменьем! средь препон
Искало сердце умиротворенья.
Я Марса с Фебом ведала агон,
Лицом бледнела, изменялся голос,
Как предавалась всем душевным смутам.
Огню была я трутом,
Себя прельщая этой ложью зыбкой.
Когда меня одаривал улыбкой,
Казалось, в мире были ярче краски,
И он, в обманной маске,
Иным, чем есть, являлся мне не раз.
Возлюбленный, блистал он, как алмаз,
А я фиалкой в этом свете млела!
Иными зрила я устои мира,
И дивный лик кумира
Сиял, как луч из горнего предела;
Уму казался счастьем этот жребий,
И мне не нужно было благ на небе.
И кто осудит наши заблужденья?
Увижу ли, божественный эфеб,
Тебя я вновь средь этих превращений?
Я мнила: ты прекраснее, чем Феб,
Так древле в наши дольние селенья
Меркурий нисходил от горней сени.
Пылаю, тщетны пени,
Хоть сердце тверже адаманта было;
Я, прежде непорочная, любила
Бродить в лесах за девственной Дианой,
Жила как мне желанно,
Благочестивым помыслом цвела,
Бежала от мужчин я, как от зла,
То осуждала, то звала Гимена,
То чаяла принесть обет монаший.
Вдруг, всё сильней и краше,
Взметнулся пламень необыкновенный,
Искрился он и, ослепляя око,
Казался колесницею пророка.
И в нем тогда явился Лавр цветущий
Там, где ни гарпий, ни лихих гадюк,
Ни хищных тварей, что в лесу засели;
С Евтерпою все касталиды вкруг
Там восседали под ветвистой кущей;
Пан, Палес, Вакх, Сильван, Церера, Делий —
Все танцевали, пели
Среди благоуханий, красок, звонов;
Венки из гиацинтов, анемонов
Плели гамадриады и напеи;
От муки багровея,
К Олимпу Марсий стоны воссылал,
Но о пощаде он не умолял.
Затем мне показалось: ветви, крона
Слюдою или алебастром стали,
Под солнцем заблистали,
Как дождь златой, Данае павший в лоно.
Земля, эфир, – всё вмиг позолотело,
Исчез, и Лавра больше я не зрела.
Покинутая, плакала от горя:
Уж не встречала я в лесной тени
Ни музы, ни дриады, ни сатира
(Вслед за Асканием ушли они),
Лишь звери здесь, да Эхо, пеням вторя,
Разносится средь скорбного эфира;
Так я осталась, сира,
Но тень одна отныне мой вожатый».
Тут, как внезапным ужасом объятый,
Ее спросил я: «Кто же это, кто же,
Скромна и столь пригожа,
Иль добрый Лавр тебе покой дарит?»
«На то отвечу, – нимфа говорит. —
Диана встала возле водной глади,
Затем исчезла, но являлась внове,
И благородной крови,
И славою покрыта в вашем граде;
Но без нее и шагу не ступлю я».
Потупила глаза она, горюя.
Мой разум был растерянности предан
От новой тени, в сердце же моем
Вновь образ Лавра вспыхнул в то мгновенье,
И даже я возликовал притом,
Сказав: «Как будет музою поведан
Тот пыл, что мне палит воображенье?
Ведь каждое сужденье
Бывает ложно, и сейчас – ущербно;
С тобой мы, нимфа, плачем страстотерпно,
Но я тебя утешить не премину.
Ты, как Геро, в пучину
Не бросишься ль, бежав из этих мест?
С тех пор как видел я его отъезд,
Сокровище мне ниспослал Юпитер,
Что нужно б спрятать за семью замками,
К нему тянулся трижды я руками,
Но лишь страдал душой воспламененной
Я, высшею любовью побежденный».
«Едва ль учтивой, – нимфа возразила, —
Казалась тень, ведущая меня,
Скорей – его губительницей хладной;
Огонь познавши, с первого же дня
Душа одна лишь преданность хранила
Любви, что нас связала беспощадно».
Я тихо молвил: «Ладно,
Тебя утешил, так живи в надежде:
Весна придет, с ней Флора как и прежде,
Вернутся песни, танцы и забавы,
И боги в блеске славы
Пройдут с ним вместе чрез пиценский дол.
Смотри, отрады дух в тебя вошел,
Как этот зверь жестокий изъязвился!
Смотри: на адаманте золотые
Стихи его святые!»
Закончил я, и век вдруг обновился,
Она воздела к небу обе длани
И удалилась грациозней лани.
Канцона, что хотела донна эта?
Цветок искала. К Лавру отправляйся,
Поведать постарайся
О нимфе: какова, во что одета.
А после скажешь, как, с ним разлученный,
Живу и стражду я в тоске бездонной.
Тебе сонет послать я не премину.
Раз на дороге повстречал мужлана,
К бочонку тот присасывался странно
И дно лизал, точнее – сердцевину.
Ни капли не спадало на грудину —
Питийства, знать, искусник несказанный,
Он шею гнул с повадкой пеликана,
Всё начисто слизав за миг единый.
Не спрашивай, как месса завершилась,
И о попе том спрашивать не надо,
И как вино по капельке сочилось.
Он на бутыль сию смотрел с досадой,
Как только в ней вино пресуществилось,
Затем облобызал ее, как чадо,
И, выйдя за ограду,
Всё бормотал себе: «В Рим, в Рим, wein gut»;
И, дабы завершить прощанья, тут
Рыгнул пресмачно плут,
Отрыжку описать не хватит тщанья —
Прошла меж подбородком и гортанью.
II. К Лоренцо Медичи в неаполь
Кто б отнял «шарик», «поле», «молоток»
У этих глупых неаполитанцев
Иль сбил бы спесь с надменных капуанцев,
Тот саламандру б из огня извлек!
«Ну, Джанни, не плошай, вперед, игрок!»
Я лучше пса учую дух поганцев —
Всех торгашей их, наглецов, засранцев;
Синьор, у них не ценен поварок!
«О вежливости тутней ваше мненье?»
– Здесь вежливость ночным горшком прикрыта
(Отвечу вмиг): свинарник – загляденье!
«У-у! эти флорентинцы сибариты:
Утонченны, поди, до одуренья!»
На том пасутся олухи, тем сыты!
Бобов здесь не ищи ты.
На спрос ответят с придурью всегдашней:
«Моллюска вам? На площади у башни».
III. К Лоренцо Медичи об одном ужине
В тот вечер я со всеми пировал.
Линей вареных подали в ванили
И столько изощренных блюд вносили —
Их ни один подлец не надклевал.
Валились слуги с ног, вбегая в зал,
В чем лестницу негодную винили.
Угадывалось мной вино в бутыли,
Но, словно ястреб, ни глотка не взял.
Тот хлеб съедобным я назвать не вправе,
А поросенок был в соку и свежий
Лишь только на словах, никак не въяве.
Был кравчий неотесанным невежей:
Так руки грубы, молвлю не лукавя,
Ни дать ни взять две лапищи медвежьи.
И гости всё не реже
Толкались, чтоб распробовать хоть что-то,
И мненья выражали до икоты.
Как на дроздов охота —
То шепоты, то крики «э-э-э» да «дзи».
Что дальше было – сам вообрази.
IV. Против одного доктора, своего недруга
Рогожевый мешок я приоткрою
И к верху дном его перетряхну,
Посмотрим, что за пыль в нем – ну и ну!
По нюху пса легавого я стою.
Грубее б надо с бестолочью тою.
Он – круг, что Джотто вывел в старину,
А сколь он глуп, и молвить не начну,
Ведь не метать же бисер пред свиньею!
Всегда о нем глагол один и тот же:
Он задницу намял полой паландры
С таким покроем модным – идиот же!
Я знаю всё о свойствах саламандры,
Которую с другими видел в Кьедже,
И у него не более каландры…
И всё ж я не Кассандра.
Мне уважать ли чин его и звание,
Коль впал наш доктор в дуракаваляние!
Он хины окаяннее.
И чистое вино ему заказано:
Встал пред сосудом он миропомазанья.
Против Маттео Франко (V–XXIV)