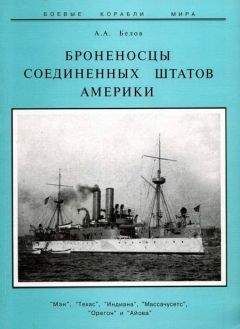Глава XLI
Но разве просят люди у всех этих святых чего-нибудь, не имеющего отношения к глупости? Взгляните на благодарственные приношения, которыми стены иных храмов украшены вплоть до самой кровли, — увидите ли вы среди них хоть одно пожертвование за избавление от глупости, за то, что приноситель стал чуть-чуть умнее бревна? Один тонул, но выплыл. Другой был ранен врагом, но выжил. Третий удрал столь же доблестно, сколь счастливо, с поля битвы, в то время как другие продолжали сражаться. Четвертый был вздернут на виселицу, но при помощи некоего святого, покровителя воров, сорвался и ныне продолжает с успехом облегчать карманы богатеев, обремененные деньгами. Пятый бежал, проломав стену тюрьмы. Шестой, к негодованию своего врача, исцелился от лихорадки. Седьмой хлебнул яду, но не умер, а только прочистил желудок на горе своей супруге, которая впустую потрудилась и потратилась. У восьмого опрокинулась повозка, но кони вернулись домой невредимые. На девятого обрушилась кровля, но он остался цел. Десятый, застигнутый мужем на месте преступления, счастливо спасся. Но никто не благодарит за избавление от глупости. Так сладко ни о чем не думать, что от всего откажутся люди, только не от Мории. Но к чему пускаться в это море суеверий?
Если б имела я сто языков и железное горло,{227}
То и тогда б не могла дураков породу исчислить
И описать до конца многовидные глупости формы.
Вся жизнь христиан до краев переполнена подобными безумствами, а священнослужители не только терпят их, но и поощряют, ибо знают отлично, как это увеличивает их доходы. Теперь представьте, что вдруг появляется среди нас несносный некий мудрец и начинает проповедовать: «Ты не погибнешь, если станешь жить праведно, грехи твои простятся тебе, если к пожертвованной лепте ты присовокупишь ненависть к злым делам, слезы, бдения, молитвы, посты — словом, все переменишь в твоей жизни. Святой этот станет тебе покровительствовать, если ты решишься ему подражать».
Если бы, говорю я, такой мудрец взялся неотступно бубнить свои поучения, сами можете себе представить, в какую смуту вверг бы он души людские, прежде утопавшие в блаженстве!..
К нашему братству принадлежат и те, кто еще при жизни усердно хлопочет о собственных похоронах, подробно указывает, сколько факелов, сколько праздных зевак в трауре, сколько певчих и сколько наемных плакальщиков должны сопровождать его тело, как будто он сам сможет любоваться на это зрелище или будет сконфужен, ежели труп предадут земле без надлежащей пышности. Право, эти люди хлопочут так, словно их избрали эдилами{228} для устройства народных игрищ и угощения.
Как ни тороплюсь я, не могу, однако, обойти молчанием тех, которые хоть и не отличаются ничем от последнего поденщика, однако кичатся благородством своего происхождения. Один ведет свой род от Энея, другой — от Брута, третий — от Артура{229}. Повсюду выставляют они скульптурные и живописные изображения своих предков, исчисляют прадедов и пращуров, вспоминают старинные фамильные прозвища, а ведь сами недалеко ушли от бессловесных истуканов. Это, впрочем, не мешает им чувствовать себя как нельзя лучше — при любезном содействии Филавтии. Но еще находятся дураки, готовые приравнять этих родовитых скотов к богам!
Зачем, впрочем, говорю я о том или ином виде тщеславных и блаженных глупцов, когда Филавтия создает счастливцев повсюду и самым чудесным образом? Иной уродливее обезьяны, а самому себе кажется Ниреем. Другой, проведя кое-как при помощи циркуля три кривых линии, мнит себя Эвклидом. Этот в музыке — что ὄνος πρὸς λύραν[81], и поет не лучше курицы, которую оседлал петух, а воображает себя вторым Гермогеном{230}. А вот еще один, без всякого сомнения приятнейший род помешательства — когда господа тщеславятся дарованиями своих слуг, словно своими собственными. Таков, например, был трижды счастливый богач, описанный Сенекой: желал он рассказать забавную историю — к его услугам были рабы, подсказывавшие ему все, чего он сам не упомнил, и хотя сам был так хил и бессилен, что едва душа держалась, он не боялся участвовать в кулачных боях, полагаясь на силу своих многочисленных слуг.
Нужно ли поминать здесь служителей свободных искусств? Им всем так близка Филавтия, что иной скорей откажется от отеческого достояния, нежели признает себя лишенным таланта; таковы в особенности актеры, певцы, ораторы и поэты, из коих кто невежественнее других, тот и наглее в своем самомнении, громче хвастается, больше пыжится. Но на всякий товар свой купец найдется, и, мало того: чем бездарней такой человек, тем больше у него почитателей; самая низкопробная дрянь всегда приводит толпу в восхищение, ибо значительное большинство людей, как уже сказано, заражено глупостью. Невежда и сам собою доволен, и другие им восторгаются, так зачем же стремиться к истинной учености, добываемой великими трудами, приносящей с собою робость и застенчивость и, наконец, ценимой столь немногими?!
Но природа не только каждого смертного одарила личным тщеславием — она постаралась снабдить народы и даже отдельные города некоей общей Филавтией. Поэтому британцы заявляют исключительные притязания на телесную красоту, музыкальное искусство и хороший стол. Шотландцы тешатся своим благородством и родством с королями, а также тонкостью ума. Французы только себе приписывают приятную обходительность. Парижане уверены, будто они превыше всех стоят в науке богословия. Итальянцы присвоили себе первенство в изящной литературе и красноречии, а посему пребывают в таком сладостном обольщении, что из всех смертных единственно лишь себя не почитают варварами. Этой блаженной мыслью более всех проникнуты римляне, которым доселе снятся приятные сны о Древнем Риме. Венецианцы счастливы сознанием своего знатного происхождения. Греки мнят себя творцами всех наук и приписывают себе достохвальные деяния древних героев. Турки, это скопище настоящих варваров, притязают на обладание единственно истинной религией и смеются над суеверием христиан. Но куда слаще самообольщение иудеев, которые доселе упорно ждут своего Мессию и цепко держатся за Моисея. Испанцы никому не согласны уступить в том, что касается воинской славы. Немцы бахвалятся высоким ростом и знанием магии.
Полагаю, что вам и без дальнейших подробностей должно быть ясно, сколь великую отраду доставляет и отдельным смертным, и всему человечеству вообще моя Филавтия, с которой весьма схожа ее сестра — Лесть. В самом деле, Филавтия есть не что иное, как самообольщение. Льсти другому, и это будет ϰολαϰία. В наши дни лесть почитается чем-то постыдным, но так судят лишь те, для которых названия вещей имеют больше значения, нежели самые вещи. Они полагают, что лесть несовместима с верностью; но они заблуждаются — даже животные служат примером обратного. Кто льстивее пса? И кто его вернее? Найдется ли животное ласковее белки, и кто так легко, как она, становится другом человека? Или, быть может, для совместной жизни с людьми более пригодны суровые львы, свирепые тигры, неистовые леопарды? Есть, правда, и пагубный вид лести, при помощи которого иные коварные насмешники доводят несчастных до гибели. Но моя ϰολαϰία рождается от добродушия и простосердечия и более сходствует с добродетелью, нежели противные ей суровость и угрюмство, столь несносные и докучливые, по слову Горациеву. Она ободряет упадших духом, увеселяет печальных, поднимает расслабленных, будит оцепенелых, больных исцеляет, свирепых умягчает, любящих сближает, а сблизив, удерживает в единении. Она побуждает отроков к усвоению наук, веселит старцев; под видом похвал и без обиды увещевает и научает государей. В общем, благодаря ей каждый становится приятнее и милее самому себе, а ведь в этом и состоит наивысшее счастье. Поглядите, как услужливо два мула почесывают друг другу спины. Не в этом ли состоит главная задача красноречия, еще в большей степени медицины и всего более поэзии? Лесть — это мед и приправа во всяком общении между людьми.
Но ведь заблуждаться — это несчастье, говорят мне; напротив, не заблуждаться — вот величайшее из несчастий! Весьма неразумны те, которые полагают, будто в самих вещах заключается людское счастье. Счастье зависит от нашего мнения о вещах, ибо в жизни человеческой все так неясно и так сложно, что здесь ничего нельзя знать наверное, как справедливо утверждают мои академики{231}, наименее притязательные среди философов. А если знание порой и возможно, то оно нередко отнимает радость жизни. Так уж устроена человеческая душа, что более прельщается обманами, нежели истиною. Ежели кто потребует от меня наглядных и убедительных примеров, я посоветую ему посетить храм или общественное собрание. Когда речь ведется о предметах важных, все спят, зевают и томятся. Но стоит только орущему (виновата, я хотела сказать — ораторствующему) рассказать какую-нибудь дурацкую, смешную историйку (а это случается нередко), все оживляются, подбадриваются, навостряют уши. Равным образом, чем больше поэтических выдумок вокруг святого, как, например, вокруг Георгия, Христофора или Варвары, тем усерднее ему поклоняются, не то что Петру, Павлу или даже самому Христу. Впрочем, здесь не место говорить об этом.