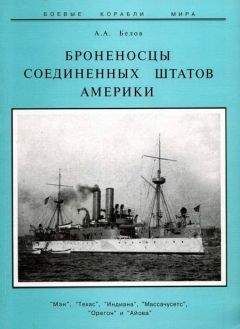Какой комедиант или площадной крикун сравнится с ними, когда они разглагольствуют с кафедры, смехотворно подражая приемам и манере древних риторов? Боже бессмертный, как они жестикулируют, как они ловко повышают голос, как пускают трели, как ломаются, какие строят гримасы, как воют на разные лады! И это искусство красноречия с великой таинственностью передается от одного братца монаха к другому. Хоть мне и не дано было узнать все его тонкости, я все же попытаюсь рассказать о нем, основываясь на догадках и предположениях. Прежде всего, по заимствованному у поэтов обычаю, взывают они к Музе. Засим, собираясь говорить о милосердии, заводят речь о Ниле, реке египетской, или, проповедуя о таинстве креста, весьма кстати поминают Бэла, дракона вавилонского. Начав беседу о посте, они перечисляют двенадцать знаков Зодиака, а рассуждая о вере, принимаются толковать о квадратуре круга. Я сама слыхала одного изрядного глупца, — прошу прощения — я хотела сказать «ученого», — который в блестящей проповеди, посвященной толкованию таинства Святой Троицы, желая дать выгодное понятие о своей начитанности и польстить слуху богословов, прибег к совершенно новому способу, а именно: завел речь сперва о буквах, потом о слогах, составляющих слова, потом о словах, образующих речь, наконец, о согласовании имен и глаголов, существительных и прилагательных. Многие слушатели дивились, и иные уже повторяли про себя стих Горация:
«К чему же ты чушь свою клонишь?»{279}
Наконец проповедник сделал вывод, что в основных началах грамматики заключается образ и подобие Святой Троицы, и так убедительно это доказал, что никакой математик не смог бы за ним угнаться. Этот ϑεολογώτατος[96] потел над своей речью целых восемь месяцев и даже ослеп, словно крот, пожертвовав остротой зрения ради остроты ума. Но сам он не слишком горюет об этом, полагая, что еще дешево купил свою славу. Слыхала я также другого богослова, восьмидесятилетнего и до такой степени ученого, что его можно принять за самого Дунса Скота, воскресшего из мертвых. Изъясняя тайну имени Иисусова, он с изумительной тонкостью доказал, что в самих буквах этого имени содержится все, что только можно сказать о спасителе. Ибо имя это имеет лишь три падежные формы — явственное подобие божественной троичности. Засим: первый падеж Iesus оканчивается на s; второй, Iesu — на u, третий, Iesum — на m, и в этом неизреченная тайна, а именно: названные три буквы означают, что Иисус есть summus, medius и ultimus, то есть верхний, средний и крайний. Оставалась другая, еще более сокровенная тайна, которая разъясняется при помощи математики: ежели разделить имя «Иисус» на две равные части, то посредине останется буква «с». Эта буква у евреев называется «син», а на языке шотландцев слово «син» означает грех. Отселе явствует, что Иисус есть тот, кто принял на плечи свои грехи мира. Восхищенные столь необычайным вступлением слушатели, особливо же теологи, чуть не обратились в камень наподобие Ниобеи{280}, а со мною от смеха едва не стряслась такая же беда, какая постигла деревянного Приапа, когда ему однажды пришлось стать свидетелем ночных таинств Канидии и Саганы{281}. Да и не мудрено: ведь подобных ἔφοδα[97] не встретишь ни у эллина Демосфена, ни у латинянина Цицерона. Они считали никуда не годным вступление, слишком далекое от предмета речи (впрочем, должно заметить, что такого же мнения придерживаются и свинопасы — их учит тому сама природа). Но искусники наши, декламируя свою так называемую «преамбулу», верят, что тем больше в ней риторских красот, чем дальше отстоит она от содержания остальной речи, и потому стараются исторгнуть у слушателя восхищенный шепот: «Куда же он теперь загнет?»
Засим следует пересказ небольшого отрывка из Евангелия (он соответствует третьему разделу речи — изложению существа дела). Оратор толкует его наспех и как бы мимоходом, тогда как об одном этом, в сущности, и следовало бы говорить. Засим, в-четвертых, нацепив новую личину, проповедник выдвигает некую богословскую проблему, по большей части οὔτε γῆς, οὔτε οὐρανοῦ ἀπτομένην[98] (того требуют, оказывается, законы ораторского искусства). Вот здесь-то и начинается превыспреннее богословие: в ушах слушателей раздаются звучные титулы докторов величавых, докторов изощренных, докторов изощреннейших, докторов серафических, докторов святых и докторов неопровержимых. Далее следуют большие и малые силлогизмы, выводы, заключения, пустейшие посылки и прочая схоластическая дребедень, предлагаемая вниманию невежественной толпы. Наконец, разыгрывается пятый акт, требующий наивысшей ловкости и искусства. Проповедник преподносит вам какую-нибудь глупую и грубую басню, позаимствованную из «Исторического зерцала» или «Римских деяний»{282}, и толкует ее аллегорически, тропологически{283} и анагогически{284}. На том и заканчивается речь, еще более чудовищная, чем химера, о которой говорит Гораций в известном стихе: «Если бы женскую голову»{285} и т. д.
Наши проповедники слыхали неведомо от кого, что начинать речь подобает возможно тише. И вот произносят они свой зачин таким голосом, что и сами себя не могут расслышать; но стоит ли вообще говорить, если никто тебя не понимает? Слыхали они также, что громкие возгласы рождают волнение в душе слушателей. Поэтому, заговорив обычным голосом, они вдруг повышают его до бешеного вопля, хотя бы и совсем некстати. Право, хочется иной раз побожиться, что такому проповеднику пошел бы впрок эллебор{286}. Далее, слыхали они, что речь следует вести, постепенно воодушевляясь, и, произнеся несколько первых фраз более или менее пристойно, они вдруг начинают надрываться, хотя бы дело касалось самых ничтожных предметов, и до тех пор усердствуют, пока только духу хватает. Засим вытвердили они все, что древние риторы говорят о смехе, и потому сами тщатся отпускать шуточки, но какие шуточки! — ώ φίλη ’Αφροδίτη![99] — такие изящные, такие уместные, что чудится, будто слушаешь ὂνον πρός τήν λύραν[100]. Порою пытаются они и съязвить, но при этом скорее щекочут, нежели ранят, а самую неприкрытую лесть стараются выдать за прямоту и откровенность.
Вообще, послушав все эти проповеди, хочется присягнуть, что авторы их обучались своему искусству у площадных краснобаев, хотя до сих последних им все-таки далеко. Как бы то ни было, они во многих отношениях столь друг с другом схожи, что, без всякого сомнения, либо те у этих, либо эти у тех позаимствовали свою риторику. И, однако, — не без моей, разумеется, помощи, — находят они слушателей, готовых почитать их за истинных Демосфенов и Цицеронов. Особенно высоко ценят их талант торговцы и бабы; им-то по преимуществу и стараются угодить проповедники, ибо первые готовы уделить частицу неправедно нажитого всякому, кто сумеет им польстить, а вторые благоволят к духовному сословию по многим причинам, особливо же потому, что привыкли изливать на груди у монахов свои жалобы на мужей. Теперь, я полагаю, вы сами видите, сколь многим обязана мне эта порода людей, которые при помощи мелочных обрядов, вздорных выдумок и диких воплей подчиняют смертных своей тирании, а сами мнят себя новыми Павлами и Антониями.
Охотно покидаю я этих бесчестных лицедеев, которые, прикидываясь набожными, черной неблагодарностью платят мне за мою благостыню, и с удовольствием завожу речь о королях и о знатных придворных, кои чтут меня с прямодушием и откровенностью, достойными людей благородных. Что, если бы у этих господ завелось хотя бы на пол-унции здравого смысла? Как печальна и незавидна была бы их жизнь! Право, никто не стал бы добиваться власти столь дорогою ценой, как клятвопреступление и убийство, если бы предварительно взвесил, что за бремя возлагает на свои плечи всякий, желающий быть государем. Кто взял в свои руки кормило правления, тот обязан помышлять лишь об общественных, а отнюдь не о частных своих делах, не отступать ни на вершок от законов, каковых он и автор и исполнитель, следить постоянно за неподкупностью должностных лиц и судей; вечно он у всех перед глазами, как благодетельная звезда, чистотой и непорочностью своей хранящая от гибели род человеческий, или как грозная комета, всем несущая гибель. Пороки всех остальных лиц губительны для немногих и по большей части остаются скрытыми, но государь поставлен так высоко, что если он позволит себе хотя бы малейшее уклонение от путей чести, тотчас же словно чума распространяется среди его подданных. Богатство и могущество государей умножают для них поводы свернуть с прямой дороги: чем больше вокруг них разнузданности, наслаждений, лести, роскоши, тем бдительнее должны они следить за собой, дабы не ошибиться и не погрешить в чем-либо против обязанностей своего звания. Наконец, какие козни, какая ненависть, какие опасности подстерегают их, не говоря уже о страхе перед тем неизбежным мгновением, когда единый истинный царь истребует у них отчета даже в малейшем проступке, истребует с тем большею строгостью, чем шире была предоставленная им власть! Если бы, повторяю, государь взвесил в уме своем все это и многое другое в том же роде, — а он бы так и сделал, обладай он здравым разумением, — то, полагаю, не было бы ему отрады ни во сне, ни в пище. Но, благодаря моим дарам, государи возлагают все заботы на богов, а сами живут в довольстве и веселии и, дабы не смущать своего спокойствия, допускают к себе только таких людей, которые привыкли говорить одни приятные вещи. Они уверены, что честно исполняют свой монарший долг, если усердно охотятся, разводят породистых жеребцов, продают не без пользы для себя должности и чины и ежедневно измышляют новые способы набивать свою казну, отнимая у граждан их достояние. Для этого, правда, требуется благовидный предлог, так чтобы даже несправедливейшее дело имело внешнее подобие справедливости. Тут, в виде приправы к делам, произносятся несколько льстивых слов с целью привлечь души подданных.