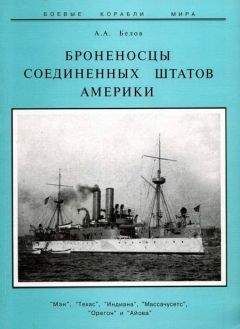Хотя все чувственные способности зависят от тела, есть между ними такие, которые кажутся грубее других. Таковы осязание, слух, зрение, обоняние, вкус. Другие — гораздо более независимы, например, память, рассудок, воля. Праведники, со всею силою души устремляясь к тому, что не имеет ничего общего с внешним миром, становятся тупыми и бесчувственными к телесным впечатлениям. И, напротив, заурядные люди наибольшее значение придают внешним чувствам и наименьшее — внутренним. Этим объясняется, между прочим, и то, что многие святые мужи, случалось, пили вместо вина масло{340}. Среди страстей и душевных чувствований есть также такие, которые кажутся особенно телесными, как, например, плотское вожделение, голод, сонливость, гнев, гордость, зависть. Праведники ведут с ними непримиримую войну, а толпа уверена, что без них и прожить невозможно. Кроме того, существуют страсти, так сказать, нейтральные, словно бы естественные; таковы любовь к отечеству, нежность к детям, к родителям, к друзьям. Толпа платит всему этому немалую дань, но праведники всячески стараются изгнать из своей души все названные склонности или по крайней мере сообщают им духовный характер, так что даже отца своего любят уже не как отца (ибо что он породил на свет, кроме тела? да и тем обязан не себе самому, а богу-творцу), но как славного мужа, в коем отраженно сияет образ верховного разума, называемого ими верховным благом. Вне этого блага они не знают ничего, достойного любви и стремлений.
Этим правилом руководствуются люди благочестивые и во всех прочих житейских делах: ежели они не совсем презирают какую-либо видимую вещь, то все же ценят ее гораздо ниже того, что недоступно оку. Они различают плоть и дух даже в таинствах и в других церковных обрядах. Так, они не верят, в отличие от большинства людей, будто пост состоит только в воздержании от мяса и отказе от вечерней трапезы, но проповедуют пост духовный, заключающийся в умерщвлении страстей, подавлении гнева и гордости, дабы дух, не удручаемый бременем плоти, мог с тем большей силой устремиться к познанию небесных благ. Так же мыслят они и об евхаристии: если обрядом причастия, говорят они, и не следует пренебрегать, то все же он не столь спасителен, как это обычно полагают. Он даже может сделаться вредным, если в нем не будет духа, то есть воспоминания о тех событиях, кои изображаются при помощи чувственных знамений. Знамения же напоминают нам о смерти Иисуса Христа, и христиане обязаны подражать этой смерти, укрощая, подавляя и словно погребая свои страсти, дабы воскреснуть для новой жизни и соединиться со Христом Иисусом, соединяясь в то же время друг с другом. Такова жизнь, таковы постоянные помышления праведников. Напротив, толпа не видит в богослужении ничего, кроме обязанности становиться поближе к алтарю, прислушиваться к гудению голосов и глазеть на обряды.
Не только в указанных мной для примера случаях, но и во всех обстоятельствах жизни убегает праведник от всего, что связано с телом, и стремится к вечному, невидимому и духовному. И так как отсюда рождаются постоянные несогласия между ним и остальными людьми, он упрекает их в безумии, а они отвечают ему тем же. Я же полагаю, что название безумца больше подобает праведникам, нежели толпе.
Дабы это стало еще очевиднее, я, согласно моему обещанию, в немногих словах докажу, что награда, обещанная праведникам, есть не что иное, как своего рода помешательство. Еще Платон имел в виду нечто подобное, когда написал, что «неистовство дарует влюбленным наивысшее блаженство»{341}. В самом деле, кто страстно любит другого, тот живет уже не в себе, но в любимом предмете, и, чем более он от себя удаляется, дабы прилепиться душою к этому предмету, тем более ликует. Но когда душа словно бы покинула тело и уже не в силах управлять телесными членами, то как прикажете назвать такое состояние, если не исступлением? Это подтверждают и общераспространенные поговорки: «Он вне себя», «Он вышел из себя», «Он пришел в себя». Далее, чем совершеннее любовь, тем сильнее неистовство и тем оно блаженнее. А теперь задумаемся, какова та небесная жизнь, к которой с такими усилиями стремятся благочестивые сердца? Их дух, мощный и победоносный, должен поглотить тело. Ему тем легче будет совершить это, что тело, очищенное и ослабленное всей предыдущей жизнью, уже подготовлено к подобному превращению. А затем и самый дух этот будет поглощен бесконечно более могущественным верховным разумом, и тогда человек, оказавшись всецело вне себя, ощутит несказуемое блаженство и приобщится к верховному благу, все в себя вобравшему. Хотя блаженство это может стать совершенным лишь в миг, когда усопшие души, соединившись с прежними своими телами, получат бессмертие, однако, поскольку жизнь праведников есть лишь тень вечной жизни и непрестанное размышление о ней, им позволено бывает заранее отведать обещанной награды и ощутить ее благоухание. И одна эта малая капля из источника вечного блаженства превосходит все телесные наслаждения в их совокупности, все утехи, доступные смертным. Вот в какой мере духовное превосходит телесное, а невидимое возвышается над видимым! Именно об этом вещал пророк{342}, говоря: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил бог любящим его». Такова эта частица Мории, которая не отъемлется при разлучении с жизнью, но, напротив, безмерно возрастает. Эта малая капля трижды блаженной Глупости достается на земле лишь немногим. Они уподобляются безумцам, говорят несвязно, не обычными человеческими словами, но издавая звуки, лишенные смысла, и строят какие-то удивительные гримасы. Они то веселы, то печальны, то льют слезы, то смеются, то вздыхают и вообще постоянно пребывают вне себя. Очнувшись, они говорят, что сами не знают, где были, — в теле своем или вне тела, бодрствовали или спали; они не помнят, что слышали, что видели, что говорили, что делали, все случившееся представляется им как бы в дымке тумана или сновидения. Одно они знают твердо: беспамятствуя и безумствуя, они были счастливы. Поэтому они скорбят о том, что снова образумились и ничего другого не желают, как вечно страдать подобного рода сумасшествием. Таково скудное предвкушение вечного блаженства.
Впрочем, мне уже давно пора кончать: я ὑπὲρ τὰ ἐσϰαμμένα πηδῶ[120]. Ежели сказала я что-нибудь слишком, на ваш взгляд, дерзновенное, то вспомните, что это сказано Глупостью и вдобавок женщиной. Не забывайте также греческой пословицы «Πολλάϰι τοι ϰαὶ μωρὸς ἀνήρ ϰαταϰαίριον εἶπεν»[121]. Не знаю, впрочем, как по-вашему: относится это к женщинам или нет? Вижу, что вы ждете от меня заключения. Но, право же, вы обнаруживаете крайнее недомыслие, если думаете, что я помню всю ту мешанину слов, которую рассыпала перед вами. Прежде говорили: «μισῶ μνάμονα συμπόταν»[122]. Я же скажу: «μισῶ μνάμονα ἀϰροάτην»[123]. А посему будьте здравы, рукоплещите, живите, пейте, достославные сопричастники таинств Мории.
Конец!
Навозник гонится за орлом
Перевод С. Маркиша
{343}
…Об этом повествует одна забавная греческая басня, которую Лукиан приписывает Эзопу: в «Икаромениппе» он упоминает{344}, что у Эзопа была притча про то, как некогда навозные жуки и верблюды поднимались на небо. Что же до содержания рассказа об орле и жуке, то вот оно примерно какое. У орлиного рода со всем племенем навозников вражда с незапамятных времен, и война не на живот, а на смерть — ну, прямо-таки ἃσπονδος πόλεμος[124], как говорят греки. До такой степени ненавидят, они друг друга, что сам Юпитер, οὑ ϰράτος ἐστί μέγιστον[125] и чье мановение приводит в трепет весь Олимп, не смог их примирить и утишить раздор, — если только можно дать веру притчам. Да, согласия меж ними не больше, чем в наши дни между придворными богами и презренною, темной чернью. Но найдется, наверное, человек, несведущий и ἀνήϰοος[126] в Эзоповых баснях, который изумится: что за дела у навозника с орлом? Какое родство, какая близость или Соседство могли возникнуть между столь несхожими существами (ведь именно подобного рода узы чаще всего служат началом и истоком вражды, особенно среди государей)? Что за причина такой жестокой ненависти? Откуда, наконец, у навозного жука столько отваги, чтобы не побояться войны с орлиным народом? А с другой стороны, чем это был так оскорблен и раздосадован возвышенный дух орла, чтобы не пренебречь врагом, столь ничтожным, недостойным даже ненависти? Долгая история, долгая ненависть, долгие козни; и вообще предмет слишком велик, а потому человеческому красноречию недоступен. Но если бы Музы, которые некогда не сочли за труд нашептать Гомеру «Βατραχομυομαχίαν»[127], удостоили помощью и меня, покинувши ненадолго Геликон, я попытался бы в меру своих сил изобразить самую суть дела. Ведь не может быть на свете таких трудностей, чтобы люди не дерзали их одолеть, если путь указывают Музы! Однако прежде чем приступить к рассказу в собственном смысле слова, я, по возможности коротко, очерчу нравы, внешность и природные задатки обоих воителей, — тогда и самый рассказ будет понятнее.