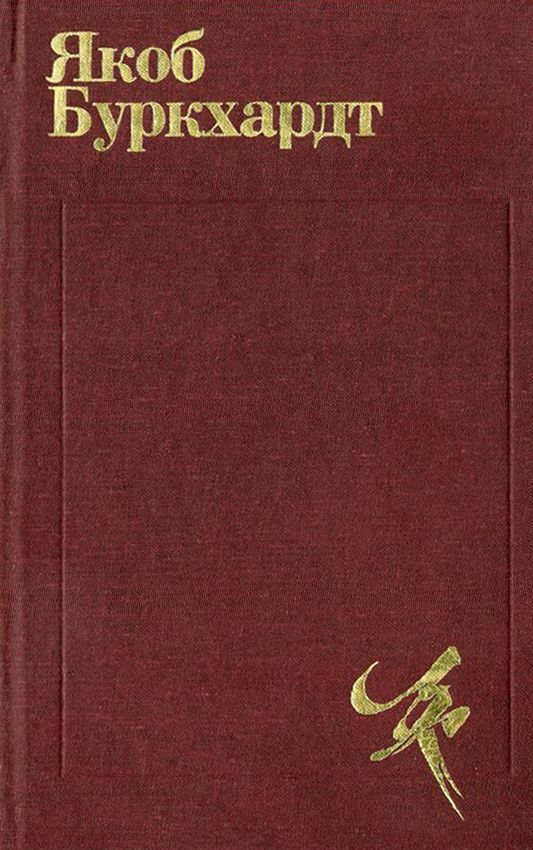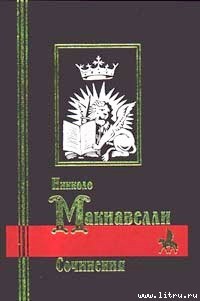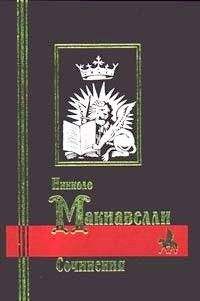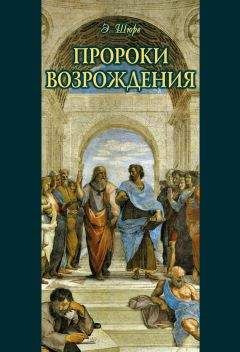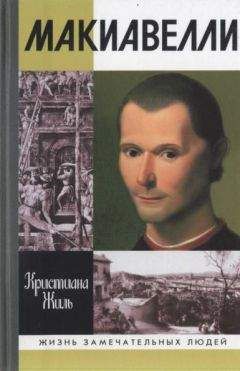Кто обездолил и страдать обрек
Навек? О, недруг-рок,
О, жребий-враг, куда, со мною споря,
Ты тащишь за собой силком, дабы Безжалостное не было судьбы?
Куда бы ныне ни держал я путь,
В рыданиях блаженствую украдкой:
У глаз моих иных желаний нет.
Твержу себе: стократ влюбленным будь —
Но вот конец твоей отрады краткой
И вот начало бесконечных бед.
Как звезд далеких свет,
Ее глаза, в моей душе мерцая,
И голос, и движения, и лик,
(Он в душу мне проник,
Так что ж другого не ищу лица я!) —
Столь беспощадны к сердцу моему,
Что как еще живу я, не пойму.
Да, я живу, но мертвеца мертвей. Без милосердья жизнь — такая участь Живее смерти выглядит навряд. Для счастья мертв, живу я для скорбей. И сердце, оттого живее мучась, Привыкло к этой жизни без отрад (Тогда как очи зрят
Одну ее), — и страждет, хоть в надежде
Еще пылает и волнует грудь,
И не слабей ничуть
Огонь ума, бушующий, как прежде.
И вопрошаю, эту жизнь кляня:
«Почто, судьба, ты так казнишь меня?»
Канцона, не хватило мне ствола. Зато конца и края нет печали. И вновь к коре прибегну, как вначале.
XXXIII. Пероттино умолк, окончив канцону, и, помолчав недолго, издал скорбный вздох, исходивший, казалось, из самого сердца — вернейшее доказательство внутреннего страданья, после чего начал другую канцону:
Бегу тоски я, но, увы, от пут, Судьбу обременивших, и поныне Себе не в силах бегством я помочь. Воспоминанья лишь сильнее жгут И предрекают — горевать судьбине, Земля рыданий просит день и ночь.
Амур, коль ты не прочь,
Мадонне расскажи об этом плаче
И в те пределы отнеси мой стих,
Где свет надежд моих
Искрился, но, погаснув, хладен, мрачен,
Столь ныне затемняет мой удел,
Сколь некогда ласкал его и грел.
Заслышав ветерок среди дубрав,
Молю его, чтоб песнями своими
Мои рыданья к небесам донес.
Родник в траве иль речку увидав,
Я взглядами сговариваюсь с ними,
Чтоб очи изливали больше слез.
А встретив кущи роз:
«О путник, — так я знаменье толкую, —
Отцвел судьбы недавно пышный куст».
И все не сходят с уст
Слова о Ней, дарящей боль такую,
Но чем я больше думаю о ней,
Тем спутник мой Амур казнит больней.
Порой виденья в зелени густой,
Едва под деревом тенистым сяду,
В лесной меня ласкают тишине.
И мысленно гляжу я в очи Той,
Что даровала счастье и отраду,
А ныне только боль приносит мне.
И, чтоб терзал вдвойне
Неверный шаг, — не ведая покоя,
Я говорю о муке, что меня
Язвит день ото дня.
И вот уж от мечты столь далеко я,
Что становлюсь, как тень от тени, хмур,
Столь жалким делает меня Амур.
Когда в зеленых травах на лугу
Чету зверей, бесхитростных и стройных,
Порой завижу я издалека,
Не крикнуть им печально не могу:
«Влюбленные! Не тратя силы в войнах,
Любовь у вас разумна и легка.
И лес, трава, река —
Здесь вовсе вам не плен и не неволя.
Я ж от любимой отлучен, увы.
Коль милосердны вы,
Внемлите оба горемычный доле. А я слезами душу отведу, В чужом грехе узрев свою беду».
И на безлюдье, где шумит волна, Я убегаю, но шалит тем паче Со мной Амур, мой давний супостат. Там изливаю сердце я сполна. И, как пером по рукописи, плача, Ракушкой по песку водить я рад. А чтоб рыдать стократ, Влекусь к прекрасному лицу, но вскоре В любимый образ мысленно вперясь, Его втопчу я в грязь, Чтоб принести моей Мадонне горе, — Но сразу же раскаянью черед: О Даме плачу и иду вперед.
Канцона, этим древом ты навек Сплетясь с другой, пойдешь за нею следом. А я своим останусь верен бедам.
XXXIV
Таким вот образом, о дамы, преследует нас любовь; и повсюду, во всяком состоянии, пламя, вздохи, слезы, тревога, мучения, скорбь сопутствуют несчастным влюбленным. И, дабы они могли сполна испить чашу страданий, никогда не дано им, жестокой и упрямой судьбой лишенным доли прочих смертных, обрести мир или хотя бы успокоение от своих страданий. Ведь все живые существа, которые, будучи созданы природой, пекутся о поддержании своей жизни, имеют обыкновение отдыхать после своих трудов и покоем восстанавливать силы, истощенные и ослабшие в заботах. Ночью веселые птицы в милых гнездах и среди нежной листвы отдыхают после дальних полетов; в чащах залегают беспокойные звери; травянистые ложа рек и легкие морские водоросли, удерживавшие на себе гибких рыб, отпускают их на любезные им пути; да и люди также, по-разному нахлопотавшись за день, хотя бы ночью, упокоив там, где застанет их сон, свои члены, вкушают сладостный отдых после дневной работы. Только несчастные влюбленные, снедаемые вечной лихорадкой, не знают ни отдыха, ни срока, ни облегчения от своих недугов: ежечасно они страждут, во всякое время разрываемые своими заботами, точно Мезий — пущенными врозь конями. День их печален, солнце им в тягость, ибо то, что может веселить, несогласно с их чувствами: но еще тяжелее им ночь, ибо сумрак более побуждает к слезам, чем свет, будучи более созвучен горю; в сумраке ночи бдение их томительно и орошено слезами, сон краток, болезнен и исполнен страхов и часто, не менее, чем бдение, орошен слезами. Ведь когда тело засыпает, душа спешит погрузиться в свои страдания и устрашающими фантазиями, всякого рода томлением приводит в смятение и ужас все чувства, чем смущает и прерывает едва забрезживший сон; или, если все же сон удерживается как необходимый в обессилевшем и слабом теле, то грезящее сердце полнится вздохами, трепещет дух, тоскует душа, плачут скорбные очи, привыкшие во сне не менее, чем наяву, следовать за жестоким и мрачным воображением. Итак, влюбленным горек день, но еще мучительней ночь, когда они изливают столько слез, сколько днем удерживали вздохов. И не иссякает влага, льющаяся из глаз, как из двух источников, и стесняется грудь, и сегодняшним вздохам не дано исторгаться из груди менее прерывисто и бурно оттого, что воздух еще полон вздохов вчерашних. И скорбь не делается меньшей от скорби, жалоба — от жалоб, тревога — от тревог, нет, каждый новый день лишь множит страданье, и с каждым часом оно становится все жесточе. Несчастье влюбленного растет, само порождая свои страданья. Влюбленный это Титий,[310] печенью своей кормящий коршуна, а вернее, отдающий сердце свое, вечно обновляемое, на невыносимейшие терзания. Он тот Иксион,[311]что, вращаемый на колесе вечных тревог, то возносится вверх, то свергается вниз, никогда не освобождаясь от своей муки; более того, он знает, что привязан и пригвожден к колесу тем крепче, чем дольше оно вращается и чем длительнее мучение. Не могу, о дамы, найти подходящие слова, чтобы передать страдания, коим подвергает нас жестокий наставник. Даже мучения обреченных во глубине Аида и те оказываются, как вы видите, менее тяжки. Но пора уже положить предел сим речам, ибо незачем далее обсуждать предмет, о котором чем больше говорится, тем больше, если вдуматься, остается невысказанного.
XXXV
Из того, что вы слышали, о дамы, вы могли достаточно уяснить, что такое есть любовь и как она пагубна и страшна. Природа по особой благодати одарила нас, людей, тем, что есть божественного в человеке — разумом, дабы мы, блюдя чистоту жизни, с его помощью устремлялись к небу. Но Амур, посягая на величие природы, безжалостно отнимает у нас разум, так что он повинен в том, что мы одной ногой погрязаем в земной скверне, а порой и вовсе в ней утопаем. И не только с наименее просветленными или наименее достойными сотворяет он то, о чем вы слышите; нет, тех, кто высоко вознесен фортуной, он, не щадя ни златых престолов, ни блистающих корон, толкает в грязь особенно непочтительно и глумливо, беспощадно попирает и гнетет. И ведь ту девушку, что его укоряла в скорбной песне, нашему Джизмондо впору благодарить, потому хотя бы, что этого явного губителя людей, повинного в стольких бедах, она укоряет еще слишком несмело и слишком кратко. Но я обращаюсь к тебе, Амур, где бы ты ни летал на горе нам, и если сетование мое более пространно, нежели ее, но тут нечему удивляться, кроме разве того, что, на миг сбросив попирающую меня пяту, я возроптал, хотя по многим твоим грехам и бессчетным злодействам ты заслужил худшего, так что ропот мой, как у усталого и обессиленного узника, звучит без сомнения и глухо, и слабо. Ты питаешь нас горечью, ты награждаешь нас скорбью, ты, смертоноснейший бог людей, во вред нашей жизни, являешь нам надменные и жестокие доказательства своей божественной силы, ты привязываешь нас к нашим недугам, радуешь нас горестями, каждый час пугаешь тысячей небывалых и невиданных страхов, ты заставляешь нас жить в тревоге и указуешь путь к жестокой и безжалостной смерти. Вот и теперь, Амур, как ты мною играешь? Свободным явившись в мир, я был им благосклонно принят, подле милых родителей я жил беспечно и мирно, и как счастливо провел бы младые годы, если бы никогда не знал тебя. Ты отдал меня той, что дорога мне более жизни; верно служа ей, покуда она принимала меня и мое служение, я долгое время жил счастливо, счастливее, чем при любом господине. А что я теперь? Какова моя жизнь, Амур? Покинутый дорогой моей дамой, вдали от старых и безутешных родителей, которые могли бы счастливо окончить свои дни, если бы не породили меня; лишенный всякого утешенья, самому себе в докуку и в тягость, игрушка фортуны, в череде невзгод я стал, наконец, притчею во языцех и, влача тяжкие мои оковы, слабый и сломленный, я бегу от людей, каждый день ища, где упокоить измученное тело, оказавшееся выносливее, чем я желал бы, ибо оно удерживает меня в жизни, заставляя бесконечно оплакивать мои невзгоды. Увы, лучше бы, хоть из жалости к моим страданьям, оно обратилось в прах, и моя смерть напитала бы то жестокое сердце, которое желает, чтобы я питал свое сердце тягостной жизнью. Но жить мне невмоготу.