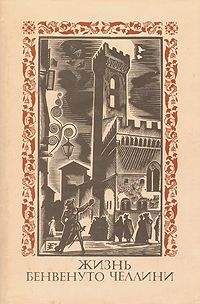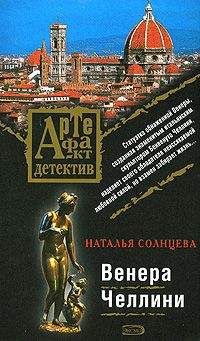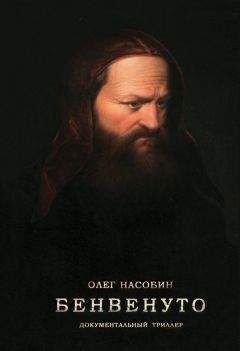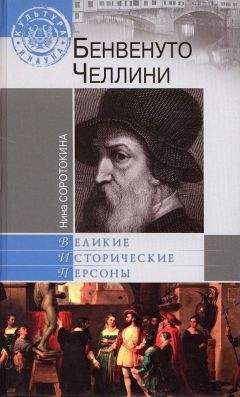Начал мой отец учить меня играть на флейте и петь по нотам; и хотя возраст мой был самый нежный, когда маленькие мальчики обычно находят удовольствие в какой-нибудь свистульке и подобных игрушках, я имел к этому неописуемое отвращение; однако, единственно чтобы слушаться, играл и пел. Отец мой изготовлял в те времена удивительные органы из деревянных трубок, клавесины, наилучшие и прекраснейшие, какие тогда можно было видеть, виолы, лютни, арфы, красивейшие и превосходнейшие; он был инженер и, чтобы делать инструменты, как-то снаряды для наводки мостов, снаряды для валяльных мельниц, всякие другие машины, работал изумительно; по слоновой кости он был первый, который хорошо работал. Но так как он и влюбился-то в ту, которая с ним стала — он мне отцом, а она — матерью, быть может из-за этой же флейточки, занимаясь ею много больше, чем следовало, то он был приглашен флейтщиками Синьории играть вместе с ними. Когда он продолжал так некоторое время для собственного удовольствия, они стали так его упрашивать, что сделали его таким же флейтщиком. Лоренцо де’Медичи и Пьеро, его сын15, которые его очень любили, увидели потом, что он весь отдался флейте и забросил свой прекрасный талант и свое прекрасное искусство; они лишили его этого места. Мой отец очень рассердился и считал, что они учинили ему великую обиду. Он сразу принялся за свое художество и сделал зеркало, около локтя в поперечнике16, из простой и слоновой кости, с фигурами и листьями, великой тщательности и прекрасного рисунка. Зеркало имело вид колеса; посередине было зеркало; вокруг было семь кругов, в каковых были вырезаны и выложены слоновой и черной костью семь Добродетелей; и все зеркало, а также и сказанные Добродетели, находились в равновесии; так что если вращать сказанное колесо, то все Добродетели двигались; а в ногах у них был противовес, который держал их стоймя. А так как он имел некоторые познания в латинском языке, то вокруг сказанного зеркала, он сделал латинский стих, который гласил: “В какую бы сторону ни вращалось колесо Фортуны, Добродетель стоит твердо”.
Rota sum: semper, quoquo me verto, stat Virtus.
Малое время спустя ему было возвращено место флейтщика. Хотя кое-что из всего этого было еще до того, как я родился, но так как я об этом помню, то я не хотел оставить это в стороне. В те времена эти игрецы были всё именитейшие мастера, и среди них были такие, которые принадлежали к старшим цехам17, шелковому и шерстяному; по этой причине отец мой не гнушался заниматься этим художеством; и величайшим на свете желанием, какое у него имелось на мой счет, это было, чтобы я сделался великим игрецом; а величайшим на свете огорчением, какое я мог иметь, это было, когда он со мной об этом рассуждал, говоря мне, что если бы я захотел, он видит меня таким способным к этому делу, что я стал бы первым человеком в мире.
VI
Как я сказал, отец мой был великим слугой и другом Медицейского дома, и когда Пьеро был изгнан18, то он доверялся моему отцу в премногих самоважнейших делах. Потом, когда пришел великолепный Пьеро Содерини19, отец же мой был в должности игреца, то Содерини, узнав об удивительном таланте моего отца, начал пользоваться им в самоважнейших делах как инженером; и пока Содерини оставался во Флоренции, он так любил моего отца, как только можно себе вообразить; и в те времена, так как я был в нежном возрасте, мой отец велел сажать меня на плечи и заставлял меня играть на флейте, и я исполнял сопрано вместе с дворцовыми музыкантами перед Синьорией и играл по нотам, а служка держал меня на плечах20. Потом гонфалоньер, то есть сказанный Содерини, находил большое удовольствие в том, чтобы я болтал, и давал мне гостинцы, и говорил моему отцу: “Маэстро Джованни, научи его, вместе с музыкой, и остальным твоим прекрасным искусствам”. Каковому мой отец отвечал: “Я не хочу, чтобы он занимался никакими другими искусствами, как только игрой и слаганием; потому что в этом художестве я надеюсь сделать величайшего человека в мире, если бог дарует ему жизнь”. На эти слова возразил один из этих старых господ21, говоря маэстро Джованни: “Сделай так, как тебе говорит гонфалоньер; почему бы ему никогда не быть ни чем другим, как только хорошим игрецом?” Так прошло некоторое время, пока не вернулись Медичи22. Как только Медичи вернулись, кардинал, который стал потом папой Львом23, весьма обласкал моего отца. Тот герб, что был на дворце Медичи24, пока они отсутствовали, с него были убраны шары, и на нем написали большой красный крест, каковой был гербом и эмблемой Коммуны; так что, как только они вернулись, красный крест соскоблили и в сказанном щите поместили его красные шары и сделали золотое поле, устроив все очень красиво.
Мой отец, у которого была от природы подлинная поэтическая жилка и даже немного пророческая, что несомненно было у него божественным, под сказанным гербом, как только он был открыт, поместил такие четыре стиха; гласили они так:
Сей герб, который был еще вчера
Под милосердной схоронен святыней,
Свой гордый лик опять являет ныне
И ждет священной мантии Петра.
Эту эпиграмму прочла вся Флоренция. Немного дней спустя умер папа Юлий II. Кардинал де’Медичи отправился в Рим и, вопреки ожиданию всех, был избран папой25, и это был папа Лев X, щедрый и великодушный. Мой отец послал ему свои пророческие четыре стиха. Папа прислал ему сказать, чтобы он ехал туда и благо ему будет. Он не хотел ехать; и вот, вместо воздаяния, его лишил дворцовой должности Якопо Сальвиати, как только был сделан гонфалоньером.26 Это и было причиной, почему я поступил к золотых дел мастеру; и то я учился этому искусству, то играл, без всякой к тому охоты.
VII
Когда он мне говорил такие слова, я просил его, чтобы он мне позволил рисовать столько-то часов в день, а все остальное время я готов играть, только чтобы его удовольствовать. На это он мне говорил: “Так, значит, ты не любишь играть?” На что я говорил, что нет, потому что это казалось мне искусством гораздо более низким, чем то, которое у меня было в душе. Мой добрый отец, придя от этого в отчаяние, отдал меня в мастерскую к отцу кавалера Бандинелло, каковой звался Микеланьоло27, золотых дел мастер из Пинци ди Монте, и был весьма искусен в этом художестве. Никаким родом он не блистал, а был сыном угольщика; это не в упрек Бандинелло, каковой положил основание своему дому, если тот пошел от доброго начала. Как бы оно там ни было, мне сейчас о нем говорить нечего. Когда я там прожил несколько дней, мой отец взял меня от сказанного Микеланьоло, как человек, который не мог жить без того, чтобы не видеть меня постоянно. Так, к своему неудовольствию, я продолжал играть до пятнадцатилетнего возраста. Если бы я захотел описывать великие дела, которые со мной случились вплоть до этого возраста и к великой опасности для собственной жизни, я бы изумил того, кто бы это читал; но чтобы не быть таким пространным и так как мне многое нужно сказать, я это оставлю в стороне.
Достигнув пятнадцатилетнего возраста, я, вопреки воле моего отца, поступил в золотых дел мастерскую к одному, которого звали Антонио ди Сандро, золотых дел мастер, по прозвищу Марконе, золотых дел мастер. Это был отличнейший работник и честнейший человек, гордый и открытый во всех своих делах. Мой отец не хотел, чтобы он платил мне жалованье, как принято другим ученикам, с тем чтобы я, так как я добровольно взялся исполнять это художество, вдосталь мог рисовать, сколько мне угодно. Это я делал весьма охотно, и этот славный мой учитель находил в этом изумительное удовольствие. Был у него побочный сын, единственный, каковому он много раз ему приказывал, дабы оберечь меня. Такова была великая охота, или склонность, и то и другое, что в несколько месяцев я наверстал хороших и даже лучших юношей в цехе и начал извлекать плод из своих трудов. При этом я не упускал иной раз угодить моему доброму отцу, то на флейте, то на корнете играя; и всегда он у меня ронял слезы с великими вздохами, всякий раз, как он меня слушал; и очень часто я, из любви, его ублажал, делая вид, будто и я тоже получаю от этого много удовольствия.
VIII
Был у меня в ту пору родной брат28, моложе меня на два года, очень смелый и прегорячий, который стал потом из великих воинов, какие были в школе изумительного синьора Джованнино де’Медичи29, отца герцога Козимо; этому мальчику было лет четырнадцать, а мне на два года больше. Однажды в воскресенье, около 22 часов, он был между воротами Сан Галло и воротами Пинти, и здесь он повздорил с некоим юнцом лет двадцати, со шпагами в руках; он так ретиво на него наступал, что, люто его ранив, продолжал теснить. При этом присутствовало великое множество людей, среди которых было немало его родичей; и, видя, что дело идет по скверному пути, они схватили множество пращей, и одна из них попала в голову бедному мальчику, моему брату; он тотчас упал наземь, без чувств, как мертвый. Я, который случайно находился тут же, и без друзей, и без оружия, кричал брату, как только мог, чтобы он уходил, что того, что он сделал, хватит; покамест не случилось, что он, таким вот образом, упал, как мертвый. Я тотчас же подбежал, и схватил его шпагу, и стал перед ним и против нескольких шпаг и множества камней; я не отходил от брата, пока от ворот Сан Галло не подошло несколько храбрых солдат и не избавили меня от этого великого неистовства, много дивясь тому, что в такой молодости такая великая храбрость. Так я отнес моего брата домой, как мертвого, и, прибыв домой, он пришел в себя с великим трудом. Когда он выздоровел, Совет Восьми30, который уже осудил наших противников и выслал их на несколько лет, также и нас выслал на полгода за десять миль. Я сказал брату: “Иди со мной”; и так мы расстались с бедным отцом, и, вместо того, чтобы дать нам сколько-нибудь денег, потому что у него их не было, он дал нам свое благословение. Я отправился в Сиену, разыскать некоего почтенного человека, который звался маэстро Франческо Касторо; и благо я как-то раз, убежав от отца, пришел к этому честному человеку и пробыл у него несколько дней, пока за мной не прислал отец, занимаясь золотых дел мастерством, то сказанный Франческо, когда я к нему явился, тотчас же меня узнал и приставил к делу. Когда я таким образом принялся работать, сказанный Франческо дал мне жилье на все то время, что я пробуду в Сиене; и там я поселил моего брата и себя и занимался работой много месяцев. Брат мой знал начатки латыни, но был такой молоденький, что не вошел еще во вкус науки и только и делал что гулял.