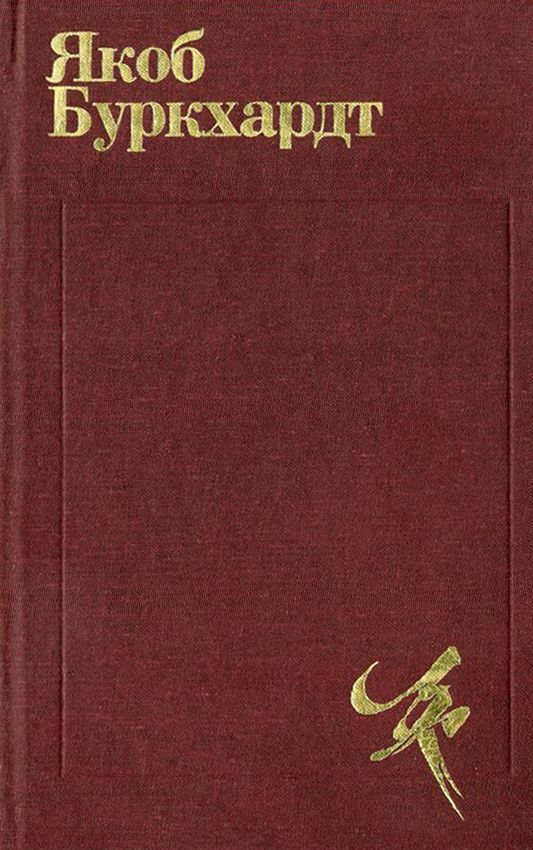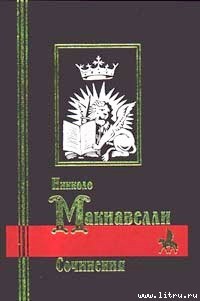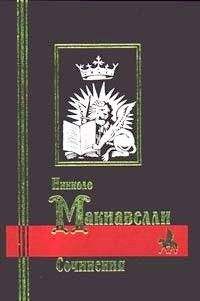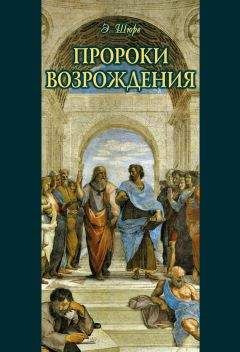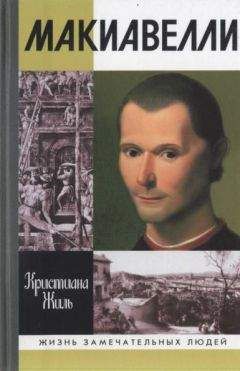XLV
Здесь в разговор вступил мессер Пьетро Бембо:
— Не понимаю, Граф, как вы можете требовать, чтобы сей ваш Придворный, будучи человеком образованным и наделенным столькими другими совершенствами, почитал бы все это украшением для воинского искусства, а не наоборот — воинское искусство и прочее украшением образованности; она одна настолько своим достоинством превосходит воинское искусство, насколько душа тело, ибо касается она как раз души, так же как воинское искусство касается тела.
— Отнюдь нет, — возражал на это Граф, — воинское искусство касается и души и тела. Однако, мессер Пьетро, я не хочу, чтобы вы были судьей в этом деле, так как вас можно заподозрить в сочувствии одной из сторон. И поскольку спор сей уже долго занимал весьма мудрых людей, нет необходимости поднимать его вновь. Я его считаю решенным в пользу воинского искусства и хочу, чтобы и наш Придворный — поскольку я имею право лепить его по своему вкусу — рассудил его подобным же образом. Если вы держитесь противоположного мнения, то подождите, покуда не станете очевидцем состязания, в котором дозволительно тем, кто выступает в пользу военного искусства, защищаться его оружием, а тем, кто отстаивает образованность, употребить ее с той же целью; ибо если каждая сторона воспользуется своими средствами, вы увидите, что ученые мужи потерпят поражение.
— Ах, — молвил мессер Пьетро, — прежде вы осуждали французов за презрительное отношение к наукам, которые, по вашим словам, даруют людям блеск славы и делают их бессмертными. А теперь вы как будто переменили образ мыслей. Разве вы не помните:
— Пред ним Ахилла гордого гробница — И Македонец закусил губу: «Блажен, чья слава и поныне длится, Найдя такую звонкую трубу!»76
Если Александр завидовал не деяниям Ахилла, но удаче, даровавшей ему великое счастье быть воспетым Гомером, то можно заключить, что литературные творения Гомера он ценил более, нежели воинские подвиги Ахилла. Какого еще судью, какой еще приговор касательно достоинств воинского искусства и образованности вы ожидаете, если не тот, что дан одним из самых великих полководцев, живших на свете?
XLVI
Граф ответил:
— Я не одобряю французов, которые думают, что образованность вредит профессии воина, и нахожу, что никому так не пристало быть образованным, как воину. Я хочу, чтобы эти два качества [воина и ученого] были в нашем Придворном самым подобающим образом соединены, и одно другое дополняло. В этом, мне кажется, я не переменил образа мыслей. Но я уже сказал, что не хочу выяснять, какое качество из двух заслуживает большей похвалы. Достаточно того, что ученые мужи почти всегда берутся превозносить великих людей и знаменитые деяния, заслуживающие прославления сами по себе, ибо являют образцы высокой доблести; кроме того, последние дают превосходный материал писателям, служат украшению и, отчасти, увековечению их трудов, которые, пожалуй, не были бы так читаемы и ценимы, не имели бы такого значения и такой важности, не будь в них представлена эта возвышенная тема! И если Александр завидовал Ахиллу потому, что его славил Гомер, сие не означает, однако, что образованность он ставил выше воинского искусства; если бы он признал себя в нем настолько уступающим Ахиллу, насколько в сочинительстве, он считал, уступали Гомеру все те, кто повествовал о нем самом, то прежде, я убежден, он много больше пожелал бы себе преуспеть в действии, нежели другим — в слове. Отчего в этих словах я усматриваю у него скрытую похвалу самому себе и желание того, чего, ему казалось, ему недостает, то есть писателя исключительного мастерства, а не того, чего, как он полагал, он уже достиг, то есть воинской доблести, в которой Ахилла он считал никак не выше себя. Словом, он называл Ахилла баловнем судьбы, как бы давая понять, что если его собственная слава не была до сих пор с таким блеском и красотой воспета на весь мир, как слава Ахилла в сей божественной поэме, то случилось так не потому, что доблесть и заслуги его были меньше и недостойны столь великой хвалы, но по прихоти судьбы, которая предназначала Ахиллу это чудесное дарование, на весь мир протрубившее о его деяниях. Вероятно, он хотел также побудить какой-нибудь благородный талант написать о нем, своей любовью и почитанием священных памятников письменности давая понять, сколь это ему будет приятно. Теперь уже на сей предмет сказано достаточно.
— Даже слишком, — возразил синьор Лодовико Пио. — Не думаю, чтобы во всем мире можно было сыскать такой большой сосуд, который был бы способен вместить все то, что вы хотите видеть в своем Придворном.
— Подождите немного, — сказал на это Граф, — так как в нем должно быть еще много другого.
— В этом случае, — заметил Пьетро да Наполи, — толстяк Медичи будет иметь большое преимущество перед мессером Бембо.
XLVII
Под общий смех Граф продолжал:
— Синьоры, имейте в виду, что я не буду доволен Придворным, если он не будет также и музыкантом и не сумеет не только воспринимать ноты на слух и петь по ним, но и играть на разных инструментах. Потому что если подумать хорошенько, то не сыскать никакого отдыха от трудов, никакого лекарства от хворей души более похвального и благопристойного, чем музыка. Особенно при дворах, где музыка не только дает каждому избавление от скуки, но и в ряду многого другого доставляет удовольствие дамам, в души которых, нежные и податливые, легко проникает гармония, наполняя их сладостью. Неудивительно поэтому, что и в прошлом и теперь они всегда были расположены к музыкантам и находили в музыке наиприятнейшую пищу для души.
— Музыка, — сказал на это синьор Гаспаро, — вместе со многими другими глупостями, по-моему, может подобать женщинам, да, пожалуй, еще иным, кто имеет подобие мужчин, но отнюдь не тем, кто мужчины на самом деле; им не следует наслаждениями разнеживать души, пробуждая в них тем самым страх смерти.
— Не говорите так, — ответил Граф, — иначе я произнесу великое множество похвал музыке и напомню, как древние ее прославляли, почитая священной: мудрейшие философы полагали даже, что вселенная упорядочена музыкой, и небеса своим круговращением создают гармонию, и в душе нашей, сотворенной сходным образом, силы пробуждаются и как бы животворятся посредством музыки.[380] Недаром, как мы читаем, она, бывало, так сильно действовала на Александра, что заставляла его, словно вопреки собственной воле, подняться с пиршественного ложа и взяться за оружие; но стоило музыканту затем переменить тон мелодии, тот успокаивался и, отложив оружие, снова возвращался на пир. Сообщу вам также, что и строгий Сократ в преклонном уже возрасте выучился игре на цитре. Помнится, как-то я слышал, что Платон и Аристотель требовали от человека, должным образом воспитанного, быть также и музыкантом, многими доводами доказывая, сколь велика власть музыки, которую по целому ряду причин — излагать их сейчас заняло бы много времени — совершенно необходимо изучать с детства: не столько ради самой мелодии, которую мы слышим, сколько ради того, что она в состоянии выработать в нас самих новый и благой склад характера, нрав, питающий наклонность к добродетели и делающий душу более восприимчивой к счастью, подобно тому как упражнения тела делают еще более крепким; и она не только не вредна в делах гражданских и военных, но бывает крайне в них полезна. Даже Ликург[381] в своем суровом законодательстве дозволяет занятия музыкой. И мы считаем, что воинственные лакедемоняне и критяне шли сражаться под аккомпанемент лир и других нежно звучащих инструментов; что многие прославленные полководцы древности, вроде Эпаминонда,[382] занимались музыкой; что те, кто в ней не разумел, как Фемистокл,[383] почитались много меньше. Разве вы не читали, что среди самых первых предметов, коим обучал старый добрый Хирон[384] юного Ахилла, воспитывая его чуть ли не с колыбели, была музыка? И что мудрый наставник распорядился, дабы руки, которым суждено пролить так много троянской крови, бывали подолгу заняты игрой на лире? Итак, разве найдется воин, который устыдился бы подражать Ахиллу, не говоря уже о многих других прославленных полководцах, на которых я мог бы сослаться? Поэтому не надо лишать нашего Придворного музыки, которою не только смягчаются души людские, но нередко укрощаются даже дикие звери; и если кому она не нравится, то с определенностью можно заключить, что в душе этого человека нет согласия. О могуществе музыки вы можете судить уже потому, что завороженная ею рыбина позволила человеку проехать на себе верхом по бушующему морю.[385] Мы видим, как ее используют в священных храмах, когда возносят хвалу и благодарность Богу; и следует верить, что она приятна Ему и что Он даровал ее нам в качестве сладостного отдохновения от дел и забот наших. Недаром, трудясь в поле под лучами палящего солнца, привычные ко всему работники часто заглушают свою тоску грубым деревенским пением. Им отгоняет сон и скрашивает свой труд простая крестьянка, еще до рассвета встающая, чтобы прясть или ткать. Оно же является приятнейшим развлечением для бедных моряков после перенесенных бурь, ливней, ветров. В нем находят облегчение утомленные путники во время долгих изматывающих путешествий, а зачастую и — узники, томящиеся в кандалах и оковах. Но главное доказательство того, что музыкальный напев, пусть даже неотделанный, служит величайшим утешением во всех трудах и тяготах людских, являют кормилицы, наученные природой ему в качестве первейшего средства от бесконечного плача младенцев, которые под звуки их голосов засыпают успокоенными и умиротворенными, забывая о столь свойственных им слезах, которые в этом возрасте природа дала нам как предвестие о конце нашей жизни.