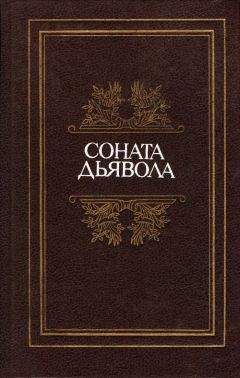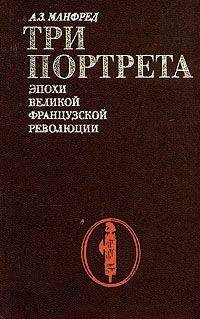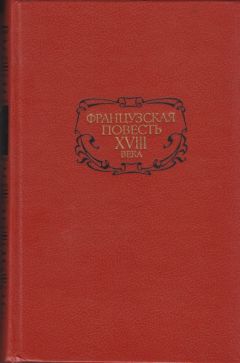В жизни каждого наступает момент, когда обстоятельства вынуждают его раз и навсегда определить свою судьбу, совершить тот поступок, после которого уже нет дороги назад.
Со мной это случилось, когда мне было двадцать лет.
Я не хочу сказать, что с тобой это произойдет раньше. Я бы не хотел этого. Но только тогда, в Везине, в утро похорон — прости, что я так часто возвращаюсь к этому, — мне показалось, будто у тебя уже началась или вот-вот начнется своя, собственная жизнь.
Я смутно почувствовал это во время споров с твоим дядей и все старался понять по выражению твоих глаз, на чьей же ты стороне — на его или на моей.
Твой дедушка — в тот день об этом достаточно много говорилось — был атеистом, как выражались в начале века, и принадлежал к масонской ложе. Мое воспитание, как и твое, не было религиозным, однако спешу добавить, что и нападок на религию в нашем доме я никогда не слыхал.
Твоя бабка в ту пору, когда мы жили все вместе, не соблюдала обрядов, однако в последние годы своей жизни она обратилась к религии и просила похоронить себя по-христиански.
Еще тогда, в день ее смерти, твой дядюшка восстал против этого — подозреваю, не столько из-за убеждений, сколько из страха, как бы это не повредило его политической репутации.
Ты не был при скандале, который он учинил тогда дедушке на вилле «Магали». Мою мать еще не успели положить в гроб, и она лежала на своей постели с подвязанным подбородком. А он, заметив у нее в руках четки, сразу же напустился на нас:
— Как! Здесь был священник?
Мой отец в свои семьдесят лет держался очень прямо, и только дрожание губ и рук выдавало его возраст. Похоже было, что он боится Ваше. Он повернулся ко мне, словно прося о помощи.
— Моя мать перед смертью пожелала причаститься. И похоронена она будет по христианскому обряду, — твердо сказал я, жестом успокаивая отца.
— Неужели он не понимает, в какое дурацкое положение ставит нас?
«Он» означало мой отец.
— После всего, что масонская ложа для него сделала…
Ваше и сегодня еще так же строен, как в те времена, когда я с ним познакомился, — он был тогда начальником отделения в префектуре Шарант-Маритим, где отец был префектом, и ухаживал за моей сестрой. Но об этом после. Ваше самоуверен, язвителен, в жизни ему повезло, он — знаменитость, а потому считает, что ему все дозволено. В доме, где только что умерла моя мать, он держался так, будто представлял всю семью и один отвечал за ее доброе имя.
— Вы и без того достаточно навредили мне, вы все!
Я потому вспомнил эту сцену, что полгода спустя он повторил эту фразу в твоем присутствии, и я видел, как ты нахмурился. Ты ведь не мог понять, что он имеет в виду, разве что Ваше или моя сестрица разговаривали с тобой без моего ведома.
Когда я кончу свой рассказ, ты сможешь судить нас, судить нас всех.
Мы с отцом настояли на своем. Ваше не запретил своей жене присутствовать при отпевании, но сам все то время, пока шла служба, сидел в своей машине против церкви, у всех на виду.
Сцена эта повторилась, когда умер твой дедушка; вопрос о его похоронах мне пришлось решать одному. Отец никогда не высказывал желания быть похороненным по церковному обряду. Последние месяцы да и последние годы его жизни у нас ни разу не заходил разговор о наших убеждениях, религиозных, философских или политических.
С января по октябрь он прожил в Везине, один во всем доме, если не считать старушки соседки, которая днем вела его хозяйство, а вечером возвращалась домой, к больному мужу.
Интересно, каким цветом окрашены для тебя воспоминания об этих последних месяцах? Мне они видятся темными, хотя была весна и начало лета. У тебя тоже это так? Иные города я вспоминаю только в их зимнем обличье — темные улицы, грязные мостовые, тускло мигающие фонари, мутные подтеки на стеклах витрин, другие, напротив, связаны с ощущением рассвета, весны. И не только города! Целые годы, целые периоды моей жизни предстают передо мной, точно скупые линии рисунка, иные же словно хранят свежесть и теплоту пастельных красок.
А что, если я спрошу:
— Каким цветом окрашена для тебя нынешняя зима?
Если и не черным, то пасмурно-серым, не так ли?
Здесь, мне кажется, играет роль и возраст — в начале пути словно проезжаешь какие-то темные туннели. Периоды душевной «линьки», той внутренней перестройки, что предшествуют крутому перелому или открытию своего «я», оставляют по себе горькое воспоминание.
Ты готовишься к экзаменам на бакалавра. Смерть бабушки, должно быть, не очень выбила тебя из колеи, ты мало ее знал, но наши обязательные поездки в Везине, после того как дедушка остался один, очень тяготили тебя, я знаю.
Я тащил тебя туда, к этому старому человеку, с которым тебя ровно ничего не связывало. Везине — это такое далекое прошлое, тем более для тебя. Воспоминания, которым иной раз мы с ним предавались, для тебя ничего не значили, так же как и эта ветхая вилла, о которой он всегда говорил с волнением.
Он почти не обращался к тебе, и это тебя, может быть, и удивляло, но ты не замечал, как он то и дело украдкой наблюдает за тобой, а потом смотрит на меня. Знаешь, я читал в его взгляде: «Все-таки, может быть, это было не напрасно?»
Не пытайся пока понять. Поймешь потом, в свое время. Надеюсь, что поймешь. Но я хочу, чтобы уже сейчас, с самого начала, ты знал: эта твоя «жертва» была необходима. К тому же я всякий раз находил способ освободить тебя.
— Кажется, в пять часов у тебя свидание с товарищем?
Я мало что знаю о твоих товарищах и понятия не имею о твоих свиданиях, говорю это не в упрек тебе. Ты смущенно протягивал ему руку:
— Спокойной ночи, дедушка.
И он отвечал тебе так же, как отвечаю я, как и он отвечал мне когда-то:
— Спокойной ночи, сынок.
Мы, Лефрансуа, редко целуемся; только в детстве каждое утро и каждый вечер я слегка прикладывался губами к щеке отца…
Мы смотрели тебе вслед. Ты, вероятно, полагал, что, когда мы оставались вдвоем, нам было что сказать друг другу?
Не больше, чем нам с тобой, когда я захожу к тебе по вечерам и сажусь на твою постель. Мы продолжали сидеть в полутемной комнате, где проводил свои дни отец, и думали каждый о своем. У нас не было потребности думать вслух. Только когда в мыслях мы заходили так далеко, что начинала кружиться голова, кто-нибудь из нас заговаривал — о книге, о каком-нибудь событии, о смерти знакомого, а то еще о медицине, которой отец последние годы стал очень интересоваться.
Никогда мы не говорили о моей матери, о Ла-Рошели, о некоторых ее жителях и тем более о событиях 1928 года.
Тебе это кажется далеким-далеким прошлым, правда? Ты-то ведь родился в сороковом году, который словно перерезал Историю надвое.
А вот для меня все, что произошло в 1928 году в Ла-Рошели, еще так свежо, годы пронеслись так быстро, что я иной раз думаю: неужто это в самом деле я, почти уже лысый сорокавосьмилетний мужчина, которому, хочешь не хочешь, скоро придется заступать место своего отца?
И если бы сестра, которой вечно нужны деньги, не настаивала на продаже, кто знает, может быть, и я, как он, закончил бы свои дни там, на кирпичной вилле «Магали»?
Не пугайся. Я догадываюсь, какие картины сразу же возникают в твоем воображении: дряхлая старость, тупая покорность судьбе…
Если я упомянул виллу «Магали», то это так, для примера. Я просто хотел сказать, что будет время, когда и меня тоже станут навещать, что наступит день, когда и ты в свою очередь скажешь сыну или дочке: «Сегодня после обеда тебе обязательно надо съездить с нами к дедушке».
Улыбнись, ну улыбнись же, дурачок! Ну, клянусь тебе, мне ни капельки не грустно и не горько!
Прежде всего я должен досказать эту историю с церковными похоронами — я вспомнил о ней сам не знаю почему, может быть потому, что она все еще мучает меня. Уже дед мой был неверующим, но его неверие было каким-то безмятежным, спокойным, я бы даже сказал — уравновешенным. Он был крупным буржуа, как это в ту пору называлось, и к тому же крупным государственным деятелем. Был ли он масоном? Об этом я никогда ничего не слышал: если бы не твой дядя Ваше, я никогда бы не узнал, что и отец мой, оказывается, был членом масонской ложи и даже достиг в ней значительных степеней.
Вполне допускаю также, что, как утверждает Пьер Ваше, у которого есть свои причины быть в курсе подобных дел, масонская ложа и в 1928-м и в последующие годы тайно вмешивалась в ход событий и сумела облегчить участь отца.
Я уже писал, что он ни звуком не выразил мне своей предсмертной воли, когда я навещал его в последние месяцы его одинокой жизни.
И все же мне кажется, я не ошибся, поступив так, как поступил. А если ошибся, да простит он меня.
Ты родился, когда ему уже пошел шестьдесят второй год, и для тебя он всегда был только дряхлым стариком, вероятно казавшимся тебе даже своего рода маньяком.