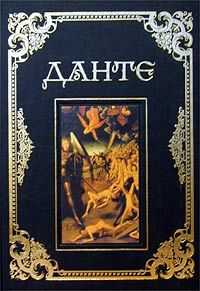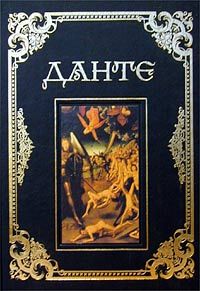поднимались вверх, а силлогизм с ложными предпосылками имел истинное заключение, а покосившийся дом был столь же устойчив, как и прямой, это не могло бы случиться, поскольку сие не зависит от нас, всего лишь свидетелей создавшегося положения, бессильных его изменить. Другой, высший Создатель создал это положение. Есть и другие действия, которые наш разум рассматривает как проявление воли, как-то: нанесение обиды и оказание помощи, или стойкость и бегство во время сражения, или целомудрие и сладострастие — они всецело подчиняются нашей воле, а потому, судя по этим действиям, нас называют праведными или грешными, ибо они — в нашей власти, а ведь действия наши простираются настолько, насколько это доступно нашей воле. А так как во всех этих действиях существует некая справедливость, которую следует соблюдать, и некая несправедливость, которой следует избегать (справедливость эта может быть утрачена по двум причинам: либо от незнания ее существа, либо от нежелания ей следовать), то и был изобретен писаный Закон, который ее определял и предписывал. Поэтому Августин и говорит: «Если бы ее — то есть справедливость — люди знали и, зная, соблюдали, писаный Закон был бы не нужен», недаром в «Старых Дигестах» [469] значится: «Писаный Закон есть искусство добра и справедливости». Для составления, обнародования и исполнения этого закона и существует то должностное лицо, о котором идет речь, а именно император, которому мы подчинены ровно настолько, насколько простираются упомянутые выше собственные наши действия. На этом основании в каждом искусстве и в каждом ремесле художники и ученики подчиняются и должны подчиняться наиболее искушенному в этих ремеслах и в этом искусстве; но за пределами этого подчинение прекращается, так же как прекращается и главенство. Так что можно было бы сказать об императоре, если угодно образно представить его обязанности, что он как бы всадник, объезжающий человеческую волю [470]. А как этот конь носится по полю без всадника, видно и так, в частности на примере несчастной Италии, предоставленной собственному управлению без всякой помощи!
Следует иметь в виду, что чем более непосредственное отношение имеет предмет к самому искусству или мастеру, тем больше он требует подчинения; ведь если умножить причину, то умножается и действие. Посему надо помнить, что существуют виды деятельности, которые те же искусства, поскольку орудием искусства служит природа, как-то: плавание на веслах, где искусство делает своим орудием толчок, который есть движение природное; или сушка зерна, когда искусство делает своим орудием тепло, которое есть свойство природное; и в этих случаях следует особливо подчиняться наиболее искушенному в данном искусстве. Но есть области, где искусство целиком орудие природы, и в них меньше искусства; и в них мастера в меньшей степени подчинены своим начальникам, как, например, в севе (где приходится считаться с волей природы) или при выходе корабля из гавани (где приходится считаться с природными условиями, то есть с погодой). И потому мы в этих областях часто наблюдаем споры между мастерами и обращения старшего за советом к младшему. Есть и другие области, к искусству не относящиеся, хотя и кажется, что они в некотором отношении ему родственны, что часто обманывает людей; и в них ученики не подчинены мастеру или учителю и не обязаны ему верить, поскольку дело касается этого искусства: такова рыбная ловля, имеющая лишь кажущееся родство с художеством, и таково знание свойств трав, имеющее лишь кажущееся родство с земледелием; в самом деле, и то и другое не имеет никаких собственных правил, так как рыбная ловля относится к искусству охоты и ему подчиняется, а знание трав относится к врачеванию, иными словами, к более благородной науке.
Все, что говорилось о прочих искусствах, можно подобным же образом наблюдать и в искусстве императорском; оно включает правила, свойственные чистым искусствам, как-то законы о браке, о рабах, о военной службе, а также о наследовании должностей, и во всем этом мы подчиняемся императору целиком, без всякого сомнения или колебания. Есть и другие законы, которые как бы следуют природе, как-то установление предельного возраста для выполнения обязанностей, и им мы подчинены не всецело. Есть еще много других, которые имеют лишь некоторое кажущееся родство с императорским искусством, и в этом многие обманывались, и есть люди, которые полагают, что императорское решение имеет в этой области силу, как-то определение молодости и благородства, в чем ни одним императорским решением нельзя руководствоваться: ведь написано — «отдавайте кесарево кесарю, а Божье — Богу» [471]. Поэтому нельзя ни верить, ни следовать императору Нерону, говорившему, что зрелость — это телесная красота и сила, но верить надлежит лишь тому, кто сказал бы, что зрелость — это вершина природной жизни, ибо этот человек — философ. И потому очевидно, что определение благородства не дело императорского искусства; а если это не дело искусства, то, рассуждая об искусстве, мы императору не подчинены [472]; а если не подчинены, то и почитать его в этом отношении мы не обязаны; а это и есть то, чего мы добивались. Поэтому мы отныне должны, имея на то полное право, со всей откровенностью поразить общепринятое мнение в самое сердце, повергая его ниц, с тем чтобы благодаря одержанной мною победе истинное мнение воцарилось в умах тех, кому важно, чтобы этот свет восторжествовал.
X. После того как были приведены чужие мнения о благородстве и было показано, что мне дозволено их опровергать, я перейду к той части рассуждения, которая их опровергает и которая, как говорилось выше, начинается со слов: «И тот, кто молвил, что людей природа / Лишь дерево с душою...» Однако надо помнить, что мнение императора — хотя оно и определяет благородство неверно — в одной своей части, а именно в той, где поминается «Изящных нравов цвет», — касалось нравов благородных, а потому оно в этой части опровержению не подлежит. Другая часть, которая не имеет ничего общего с природой благородства, как раз и подлежит опровержению; часть эта, повествуя о древнем богатстве, говорит, по-видимому, о двух разных вещах, а именно о времени и о богатстве, которые ничего общего не имеют с благородством, как уже отмечалось и как будет показано ниже. А потому и опровержение распадается на две части: сначала осуждается богатство, а затем осуждается мнение, будто время есть причина благородства. Вторая часть начинается словами: «Не стать мужлану мужем благородным...» Следует иметь в виду, что осуждением богатства осуждается не только мнение императора в той его части, которая касается богатств, но также целиком и мнение толпы, которое и