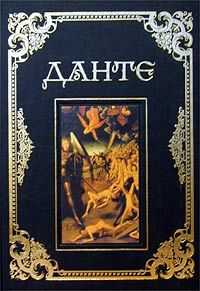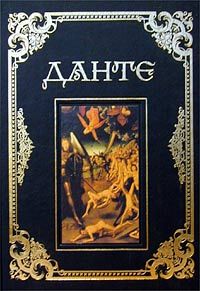Аквинского [563], который одну свою книгу, написанную для посрамления тех, кто сбивается с пути нашей веры, назвал «Против язычников». Итак, я пишу: «...в путь / Отправься...» — как бы говоря: «Отныне ты завершена, и настало для тебя время не оставаться на месте, но отправиться в путь, ибо задача твоя велика»; и «не забудь, / Канцона, там, где дама — в вышнем круге», сообщить ей свое намерение. При этом надо отметить, что, как говорит Господь наш, не следует метать бисер перед свиньями, ибо это для них бесполезно, а для бисера вредно; и, как говорит поэт Эзоп в первой басне, петуху полезнее зерно, чем жемчужина, а потому он оставляет жемчужину и клюет зерно. Памятуя об этом, я советую канцоне открыть себя там, где она найдет некую госпожу, то есть Философию. Благороднейшая эта госпожа найдется тогда, когда будет найдена ее келья, то есть душа, в коей она обитает. Философия же пребывает не только в мудрецах, но, как было показано выше, в другом трактате, она находит себе пристанище всюду, где живет любовь к ней. И я прошу канцону предстать именно перед людьми, в которых живет любовь, ибо смысл этой песни принесет им пользу и будет ими воспринят.
И я говорю канцоне: «Скажи этой госпоже: «Я о твоем благовествую друге». Друг же ее и есть благородство; ибо настолько они любят друг друга, что благородство всегда призывает Философию, а Философия не обращает своего сладчайшего взора в другую сторону. О, сколь прекрасны эти слова, которые в конце канцоны украшают собою благородство, называя его другом Философии, истинный смысл которой обретается в сокровеннейших тайниках Божественного разума!
I. Так как нам не известно, чтобы кто-нибудь раньше нас излагал учение о народном красноречии [564], а таковое именно красноречие, мы видим, совершенно необходимо всем, потому что им стремятся овладеть не только мужчины, но даже женщины и дети, поскольку оно им по природе доступно, то, желая как-нибудь просветить рассудок тех, кто, точно слепцы, бродят по улицам, постоянно принимая то, что спереди, за то, что сзади, мы, по внушению Слова с небес, попытаемся помочь речи простых людей, не только черпая для столь объемистого сосуда воду нашего ума, но смешивая лучшее из полученного им или заимствованного у других, дабы могли мы отсюда напоить жаждущих сладчайшим медвяным питьем. Но потому, что всякое учение надо не только показать, но и раскрыть его предмет, чтобы стало известно, чем оно занимается, мы заявляем, сразу приступая к делу, что народной речью называем ту, к какой приучаются младенцы от тех, кто при них находится, как только начинают они разбираться в словах; или, короче говоря, народной речью мы считаем ту, какую воспринимаем, подражая кормилице без всякой указки. Есть затем у нас и вторичная речь, которую римляне называли грамотной. Такая вот вторичная речь имеется и у греков, да и у других народов, но не у всех; навыка в этой речи достигают немногие, потому что мы ее выравниваем и обучаемся ей со временем и при усидчивости. Знатнее же из этих двух речей народная [565]; и потому, что она первая входит в употребление у рода человеческого, и потому, что таковою пользуется весь мир, при всем ее различии по выговорам и словам, и потому, что она для нас естественная, тогда как вторичная речь, скорее, искусственная. Об этой знатнейшей речи мы и намерены рассуждать.
II. Это наша истинная первая речь. Однако я не говорю «наша» так, будто есть и другая речь кроме человеческой; ибо из всех существ речью одарен один только человек, потому что единственно ему была она необходима. Ни ангелам, ни животным не было необходимости в речи; это было бы для них напрасным даром, а делать так, конечно, противно природе. Ибо если мы внимательно рассмотрим, к чему мы стремимся в нашей речи, то, очевидно, не к чему иному, как открыть другим мысль, зародившуюся в нашем уме. А раз ангелы для раскрытия благочестивых своих мыслей обладают быстрейшей и несказанной способностью разумения, благодаря которой полностью извещают друг друга либо самостоятельно, либо посредством того светозарнейшего зеркала, в коем все они отражаются во всей красоте и которое они ненасытно созерцают, то, очевидно, не нуждаются ни в каком знаке речи [566]. А коль укажут на падших духов, ответить можно двояко: во-первых, так как мы рассуждаем о том, что потребно на благо, мы должны их обойти, раз они в своем извращении не захотели уповать на Божественный промысл; либо, во-вторых, и это лучшее, что сами демоны для выявления взаимного своего коварства не нуждаются ни в чем, кроме как в том, чтобы каждый из них знал о каждом, что он существует и какова его сила; а это-то они знают, ибо они взаимно познали себя до своего падения [567]. Так же и для животных, раз они руководимы единственно природным чутьем, не надобно было заботиться о речи; ибо у всех принадлежащих к одной и той же особи действия и страсти одинаковы, и, таким образом, по своим собственным они могут познавать и чужие; а принадлежащим к различным особям речь не только не была необходима, но была бы совершенно губительна, так как между ними не было бы никакого дружественного общения. А коль укажут на змия [568], обратившегося с речью к первой женщине, или на Валаамову ослицу [569], которые говорили, мы ответим на это, что ангел в ней и дьявол в нем действовали таким образом, что двигали органами этих животных так, что у них получался членораздельный голос, наподобие настоящей речи; у самой же ослицы не получилось бы ничего, кроме рева, и ничего, кроме свиста, у самого змия. Если же кто-нибудь доказывал бы обратное, ссылаясь на слова Овидия в пятой книге «Метаморфоз» [570] о говорящих сороках, мы заметим, что это выражено иносказательно, а подразумевается другое. И если скажут, что и досель сороки и другие птицы разговаривают, мы скажем, что это вздор, так как подобное действие не речь, а некое подражание звуку нашего голоса; они, разумеется, пытаются подражать нам, поскольку мы издаем звуки, но не поскольку мы говорим. Поэтому, если в ответ на отчетливо сказанное слово «сорока» прозвучало бы «сорока», это было бы лишь воспроизведением или подражанием ранее произнесенному звуку. Таким образом, очевидно, что речью