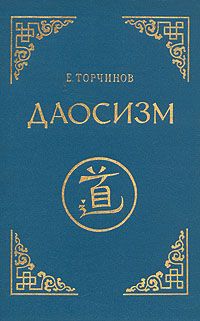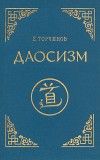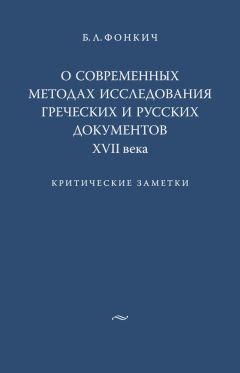Я из рук, из ног коровать смощу,
Из буйной головы ендову скую,
Из глаз его я чару солью,
Из мяса его пирогов напеку, [92]
А из сала его я свечей налью.
Созову на беседу подружек своих,
Я подружек своих и сестрицу его,
Загадаю загадку неотгадливую:
Ой, и что таково:
На милом я сижу,
На милова гляжу,
Я милым подношу,
Милым подчиваю.
А и мил предо мной,
Что свечою горит?
Никто той загадки не отгадывает;
Отгадала загадку подружка одна,
Подружка одна, то сестрица его.
– «А я тебе, братец, говаривала:
Не ходи, братец, поздным-поздно,
Поздным-поздно, поздно вечера». [93]
Что же делают поклонники символического толкования? Если признать, что в этой песне сохранились бытовые стороны, и что каннибализм, следовательно, существовал в действительности, то символическое толкование каннибализма в мифах окажется – по крайней мере в том виде, как оно обыкновенно понимается, – лишним. Поэтому не остаётся ничего другого, как признать самую песню тоже мифом, то есть символом. Так и поступают. Укажу, для примера, на следующее объяснение Хомякова, причём считаю не лишним привести его собственные слова:
«Странная и уродливая песня во всех отношениях! Отрицать её подлинности нельзя, хотя бы даже она была только местною; но такая же точно песня записана и в других местностях, следовательно, она довольно общая в Великорусской земле. Предполагать позднейшее изобретение нет причин ни по тону, ни по содержанию: окончание загадкою как будто указывает на древность. Что же это такое? Гнусное выражение злой страсти, доведённой до исступления? Тон вовсе не носит на себе отпечаток страсти и его холодность делает песнь ещё отвратительнее. Сравним с нею разбойничью песню, кончающуюся стихами:
На ноже сердце встрепенулося,
Красна девица усмехнулася, —
и разница станет очень явною. Как песня, эта песня не имеет ни смысла, ни объяснения; она невозможна психически и невозможна даже в художественном отношении (?). Как же объяснить её существование? Просто тем, что она не песня в смысле бытовом. Северная мифология в своей странной космогонии строила мир из разрушенного образа человеческого, из исполина Имера, растерзанного детьми Бора; восточные мифологии – из мужского или женского исполинского образа, часто смотря по тому, кто был убийца-строитель: божество мужское или женское. То же самое отчасти можно угадать в мифологии египетской и индийской; но, оставив в стороне гадательное, мы знаем, что на севере и на востоке космогонический рассказ был именно таков. Кости делались горами, тело землёй и всеми её произведениями и всем началом питания, кровь морями, глаза – либо морскими водоёмами, либо чашами светоносными, месяцем и солнцем. Такой процесс космогонический был, вероятно, и у нас. Мифологические рассказы при падении язычества теряли свой смысл (следует подразумевать: символический) и переходили либо в богатырскую сказку, либо в бытовые песни, либо в простые отрывочные выражения, которые сами по себе не представляют никакого смысла. Таково, например, описание теремов, где отражается вся красота небесная, или описание красавицы, у которой во лбу солнце, а в косе месяц и т. д. Песня, о которой мы теперь говорим, есть, по-видимому, не что иное как изломанная и изуродованная космогоническая повесть, в которой богиня сидит на разбросанных членах убитого ею (также божественного) человекообразного принципа. Так, например, Рутрен и Сати поочерёдно друг друга убивают в разных сказаниях. Этим объясняется и широкое распространение самой песни, и её нескладица (?), и это соединение тона глупо-спокойного с предметом, по-видимому, ужасным и отвратительным». [94]
Мы не станем говорить об очевидности натяжки этого «вероятнейшего объяснения явления», которому, по словам автора, «другого (объяснения) и придумать нельзя». Допустим, напротив, что эта песня действительно представляет остатки какого-нибудь мифа. Тогда спрашивается: если вся суть песни состояла в символизме, то каким образом народ, способный не только понимать, но даже сам придумывать символы, забыл это самое существенное в песне и сохранил не только не существенное, но даже и просто нелепое? Мы знаем, правда, что, по-видимому, и очень нелепые черты сказаний удерживаются в народе иногда с чрезвычайной стойкостью. Но ведь очевидно, что для объяснения такой стойкости следует предположить, что эти черты имели некогда важное значение, сделавшее их впоследствии чем-то неприкосновенным, не подлежащим изменению. А чтобы получить подобное значение, они первоначально уже никак не могли считаться ни ничтожными, ни нелепыми. Но если бы мы даже и допустили возможность, с одной стороны, сохранения в сказании черт неважных, случайных, не имеющих никакого основания в обычае, а с другой – утрату и забвение всего в нём существенного, то всё-таки остаётся ещё непонятным следующее: вследствие каких же причин рассматриваемая песня приняла форму первого лица, вместо того, чтобы говорить в третьем лице о каком-то враждебном существе-чудовище, пожирающем человеческое мясо? Известно ведь стремление народа осмысливать и прилаживать по-своему к действительности всё ему непонятное. Не имея под рукой достаточного количества вариантов приведённой песни, мы, к сожалению, не можем вдаваться в подробное рассмотрение всех отдельных черт её, причём ещё лучше можно было бы выказать несостоятельность всякого толкования, отрицающего её бытовое значение. Будем поэтому довольствоваться теми возражениями, которые уже нами высказаны, и которых, полагаю, и без того достаточно для нашей цели. [95]
Указав таким образом в какой мере чужие теории кажутся мне несостоятельными в приложении именно к грубым мифам, я должен высказаться теперь и насчёт другого вопроса: какое значение следует приписать тем же грубым мифам при проверке моего собственного взгляда, и в чем будет состоять эта проверка? Очевидно, что мой взгляд на первоначальную «научность» мифов не может быть прямо проверен на всех мифах, с которыми мы будем иметь дело, так как только в чрезвычайно редких случаях мы можем сказать, что вполне понимаем смысл мифа и знаем его первоначальную форму. В большей же части случаев нам приходится довольствоваться только отдельными чертами мифа. Но остаётся ещё возможность хоть косвенной проверки, которая не лишена значения на следующем основании. Я буду приводить мифы не произвольно, а лишь такие, которые всего более кажутся противоречащими моей теории, противоречащими именно потому, что приложение её к этим мифам поведёт нас к выводам, которые вследствие своей невероятности представляются, на первый взгляд, лучшим опровержением нашей теории. Если мы не сумеем отстоять эти выводы, то почти весь настоящий труд будет лишь deductio ad absurdum нашего собственного взгляда на мифы. Затем могу указать ещё и на другого рода критерий. Выше я приводил имена Штейнталя, Куна, Гана и др., которые точно так же, как и я, должны были проверять свои взгляды некоторыми данными. Но сколь ни различны в действительности наши взгляды относительно некоторых частностей, всё-таки очевидно для всякого, кто познакомился с направлением этих учёных, что многое, приводимое ими в свою пользу, служит подтверждением и моего взгляда.
Наконец, относительно пользования грубыми мифами я считаю необходимым заметить ещё следующее. Обращая внимание на грубую форму мифов, мы не будем вникать в происхождение и внутреннее значение каждого отдельного мифа, с которым будем иметь дело. Стараясь по возможности давать себе отчёт относительно этих вопросов при рассматривании каждого мифа, я убедился, что указывание на результаты чисто мифологических исследований, обременяя только ход нашего труда, всё-таки не представляло бы новых исходных точек для суждения о нравственном значении этих мифов. Такие исследования могут быть для нас интересны только в одном отношении, именно насколько ими выясняется более глубокая древность грубой формы известного мифа сравнительно с более смягчёнными. Нетрудно убедиться, что мифическая форма, употреблённая раз для выражения одной мысли, могла употребляться, с некоторыми изменениями, и для выражения многих других. Так, например, под образом борьбы двух героев могли пониматься различные явления природы. [96] Интересуясь только нравственным значением подобных образов, мы не будем доискиваться, какие именно явления следует подразумевать во всех тех частных случаях, к которым они были прилагаемы. Положим, например, что мы имеем пред собою несколько вариантов следующего содержания: отец пожирает сына; отец приносит сына в жертву (на съедение богам); отец убивает сына у жертвенника; отец убивает сына на охоте (не нарочно) и т. д. Для нас будет, конечно, важно узнать, которая из этих форм древнее. Но если для этой цели и придётся нам сличать подобные варианты, то всё-таки окажется, что нет необходимости обращать при этом внимание на все частные значения мифов, с которыми, в таком случае, мы будем иметь дело. [97]