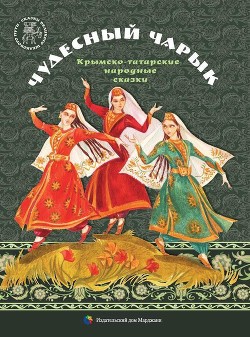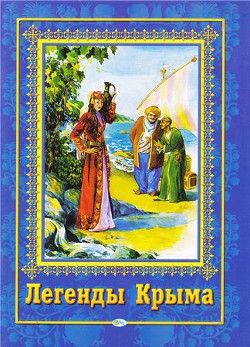На север пойдешь — море увидишь, на юг пойдешь — тоже к морю попадешь Везде вода. Но попробуй напиться ее: соленая, горькая, к жизни непригодная.
— Не бывает так, чтобы под землей не текла вода, — задумчиво проговорил отец. — Течет она так, как течет кровь в живом теле. И чтобы увидеть ее, надо вырыть колодец.
— Что ты, отец, выдумываешь, — отозвались сыновья. — Если бы под землей была вода, она сама бы нашла ход на поверхность
— Не все само делается, — ответил отец. — Иногда и руки надобно приложить. Берите лопаты!
Чабаны сняли круг порыжевшего дерна и врубились лопатами в щебенистую глину. Ни пылающее в бледном, выцветшем небе солнце, ни острая жажда не остановили людей. Гора красноватого грунта росла и росла, яма в толще земли углублялась и углублялась.
К вечеру чабаны врубились в землю почти в два человеческих роста, но воды не увидели. Не увидели они ее и на второй вечер, на третий, на пятый, на седьмой…
— Ты, отец, плохое развлечение для нас выдумал, — начали роптать сыновья, — от работы жажда усиливается, а воды все нет и нет.
— Не ради развлечения мы работаем, дети, а ради жизни на этой земле, — возразил уставшим голосом отец. Несмотря на преклонные годы свои, он работал не меньше сыновей. — Я верю в то, что вода под землей есть, я слышу ее. Значит, мы не там копаем, где нужно, значит, надо копать в другом месте…
И чабаны начали рыть второй колодец. Но и за следующие семь дней они не докопались до воды. За вторым появился третий колодец, потом четвертый, пятый, шестой. И ни в одном из них не было воды.
Роя седьмой колодец, отец и сыновья были настолько измучены, что даже не разговаривали между собой, а молча долбили и долбили сухую крымскую землю. Вечером они падали на комья глины, будто мертвые. И только утренняя роса освежала их, и они снова брались за лопаты.
В последнюю ночь старый чабан уже не в силах был вылезти из колодца, откуда он подавал грунт наверх, и остался в нем ночевать. Подложив кулак под голову, он сразу же задремал.
И видит старик хороший сон. Ему снится вода. Чистая, прохладная, она наполнила все семь колодезей и разлилась по степи шумливыми ручьями. Ожила напоенная водой крымская степь, запела тысячами птичьих голосов. Сыновья, обливая друг друга водой, смеются, приговаривая:
— А прав был наш отец!
Проснулся ночью старый чабан, пошарил вокруг себя рукой, и лицо его просияло: земля была мокрая. «Близко вода! — подумал старик. — Завтра ее увидят сыновья, вот обрадуются!.. Теперь и поспать можно со спокойной душой». И чабан уснул крепким, глубоким сном.
Назавтра один из сыновей опустил в колодец ведро, чтобы отец наполнил его грунтом. Но странно: ведро не ударилось о твердое дно, а плюхнулось на что-то упругое. Заглянул сын в колодец и увидел там небо и свое отражение.
— Вода!!! — что есть мочи закричал он. Подбежал его брат, тоже заглянул в колодец и
тоже закричал на всю степь:
— Вода!!!
Бросились братья ко второму колодцу, к третьему, к четвертому — в них тоже была вода. Что за чудо? Все семь колодезей были наполнены чистой, прохладной водой.
И показалось молодым чабанам, что все вокруг изменилось, повеселело. И солнце перестало так немилосердно жечь, и небо стало более голубым, приветливым, и подул свежий ветер, так что стало легче дышать.
— А где же наш отец? — удивились 6ра1ья.
Они долго ходили по степи и звали отца.
Но тот не откликался.
Так до сих пор и не знают, куда исчез старый чабан. Люди гозорят, что он превратился в родник, который и наполнил все семь колодезей живительной водой.
[60]
ксана, Оксаночка, ох и хороша дивчина.
Что и говорить, хороша! Много слов красота не требует. И так видно…
Гей-гей, Оксана, Оксаночка, статная, сильная. Никто не мог сказать, что видел хоть раз слезы на глазах Оксаны. Слезы — это для слабеньких.
Черноусые казаки не вдруг заговаривали с ней. Не то чтобы побаивались, но были осторожны. Куда девался металл в голосе казаков. Голос становился вкрадчивым, ласковым.
В жаркий день в селе тишина. Каждый прохлады ищет, от жары прячется. А Оксана коромысло несет с холстами — белить на реку.
Гей-гей, Оксана, Оксаночка, если бы знала ты, если бы ведала — в ту пору не пошла бы на реку холсты белить. Не пошла бы, если б знала, что беда надвигается из степи далекой.
Налетела на село орда крымская. Поднялся стон и плач…
Схватили татары Оксану, связали сыромятным ремнем руки, набросили петлю на шею и потащили за собой.
Впереди пути-дороги страшные, выжженные села, кровавые тропы. Назад оглянешься —
горят хаты, горит счастье человеческое, горит честь девичья — все горит. Только одни мельницы машут своими крыльями, будто прощаются. Скрипят телеги, везут в чужие земли пленников, везут хлеб, потом взращенный.
Вот и Кафа. Большой двор, обнесенный высокой стеной, большие ворота, железом окованные. Ох сколько людей прошло через эти ворота, сколько с грустью-тоской оглянулось, когда они со скрипом закрывались…
Стояла Оксана на невольничьем рынке, гордая и прекрасная в своем скорбном гневе. Такой красоты еще не было. Такой осанки еще никто не видывал.
Вот и продана Оксана. Повезли ее в город — грязный, тесный, пыльный. Только в одном месте красовался пышный дворец. В нем жил хан.
Привели Оксану во дворец и оставили в комнате, где было много женщин.
Не трогали евнухи пока Оксану, не вели к хану. Ждали, что ослабнет духом. «Будем кормить сладко, одевать красно, сломится, не таких ломал гарем», — думали.
Шли дни — тоскливые, серые, один на другой похожие. Чем заняться Оксане, привыкшей к широким степным просторам, к яркому солнцу? Сколько было дарено ей природой, жизнью, только теперь оценила она по-настоящему. И милое сердцу родное село, и тихие вербы, чистые воды и ясные зори, девичий смех и задушевные песни…
А Павло! Где ты, мой горицвет, казак мой?
Пусть люди не могли сказать, где