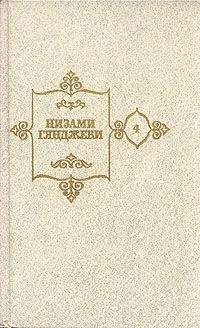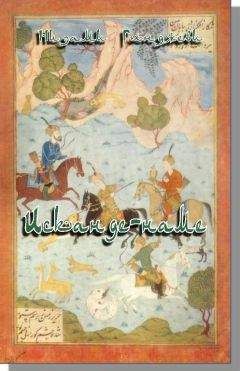Хосров узнает о поездке Ширин. Гибель Ферхада
Вседневно хитростно искал владыка мира
Каких-нибудь вестей о действиях кумира.
Он больше тысячи лазутчиков имел.
Был каждому из них дан круг особых дел.
Лишь пальчиком Луна дотронется до носа,
Они спешат к царю для нового доноса.
Когда на Бисутун взошла Ширин и там
Узрела кряж, сродни булатным крепостям,—
Все соглядатаи промолвили владыке:
«Ферхад увидел рай в ее прекрасном лике,
И сила дивная в Ферхаде возросла:
Силач взмахнет киркой — и валится скала.
Восторгом блещет он, в его душе разлитым,
Он, меж гранитных глыб, сам сделался гранитом,
Железом, что дробит угрюмых скал табун,
Сутулой сделает он гору Бисутун.
Воинственен, как лев, твой недоброжелатель
И рвет недаром кряж, ведь он — кладоискатель.
Лисица победит, в уловках зная толк,
Хоть в состязание с ней вступит сильный волк.
Хоть груда ячменя увесистей динара,
Весы шепнут: «Динар, ты ячменю не пара».
Коль с месяц он свою еще промучит грудь,—
То из спины горы наружу выйдет путь».
И шах изнемогал от этой ярой схватки,
Как сохранить рубин? Не разрешить загадки!
И старцев он спросил, гоня кичливость прочь:
«Какими мерами могли бы вы помочь?»
И старцы молвили, не медля ни минуты:
«Коль хочешь, шаханшах, распутать эти путы,
Ты дай Ферхаду знать, среди его вершин,
Что смерть внезапная похитила Ширин.
Немного, может быть, его ослабнут руки,—
И он прервет свой труд от этих слов разлуки».
И принялись искать глашатая беды,
Чей хмурый лоб хранит злосчастия следы,
Того, кто как мясник в крови вседневной сечи,
Того, кто из усов огонь смертельный мечет.
И вот научен он дурным словам; сулят
Иль золото ему, иль гибельный булат.
Идти на Бисутун, свершить худое дело
Он должен. Для него иного нет удела.
И дерзостный пошел, вот перед ним — Ферхад.
Кирку сжимала длань, не знавшая преград.
Ферхад, что дикий лев, с себя сорвавший путы.
Рыл гору он, как лев, напрягшийся и лютый.
О лике сладостном слагая песни, бил
Он яростно гранит; он, словно пламень, был.
Ферхаду вымолвил нежданного глашатай,
Как будто горестью неложною объятый:
«Беспечный человек! Вокруг себя взгляни.
Зачем в неведенье свои проводишь дни?»
Ферхад: «Я друга чту, и для него с охотой
Я время провожу, как видишь, за работой.
Того я друга чту, чьи сладостны слова
И кем на жизнь мою получены права».
И вот когда узнал горькоречивый вестник:
Тут ворожит Ширин — пленительный кудесник,
Он, тягостно вздохнув, сказал, потупя взгляд:
«О смерти Сладостной не извещен Ферхад!
О, горе нам! Когда сей кипарис веселый
Был сломлен бурею, подувшей в наши долы,
Мы амброю земли осыпали Луну,
Снесли дорогой слез на кладбище Весну.
И, прах похоронив прекрасной черноокой,
Направились домой мы в горести глубокой».
В Ферхада за клинком он направлял клинок,
Вздымал за стоном стон, чтоб сильный изнемог.
Когда «О, Сладкая! — сказать посмел. — О, горе!»
О, как такой вещун не онемел, о, горе!
Чье сердце этих тайн хотело б не хранить?
Внимал им или нет — не смеешь говорить!
Когда в Ферхадов слух метнули вестью злою,
С вершины пал Ферхад тяжелою скалою.
Вздохнул Ферхад, и вздох был холоден: копье,
Казалось, в грудь его вонзило острие.
Рыдая, молвил он: «Не зная облегченья,
Я ведал тяжкий труд, и смерть полна мученья.
Пускай пастух овец бесчисленных пасет,
Волк жертву нищего из стада унесет.[223]
Да, цветнику сказал шербетчик, рвущий розу:
«Вернуть все взятое не забывай угрозу».
Проворный кипарис покрылся прахом!
Ах, Зачем же мне чело не осыпает прах?
Румяных лепестков развеяна станица!
Зачем же мне сады, когда вокруг — темница?
Уж пташка унеслась в край отдаленный свой!
Зачем же не кричу я тучей громовой?
Погас над миром свет, горевший звездным знаком!
Зачем же в этот день мир не покрылся мраком?
В небытии с Ширин свидание мое!
Я, не промедливши, уйду в небытие!»
Оповестил о ней он и моря и сушу,
И, прах поцеловав, свою он отдал душу.:
Всем ведомо: судьбе иного дела нет —
Как души отнимать, гасить для смертных свет.
К злосчастному стремясь, рок позабыл о мере,—
И входят бедствия, все распахнувши двери.
Он видит: счастья нет, лишь горечь дни сулят;
Он вложит сахар в рот, — тот обратится в яд.
За розу ухватясь, он скажет: «Ты близка мне».—
Не росы на него посыплются, а камни.
Увидит: бурный мир, увидит: мир — не гладь.
Из мира этого свою забрать бы кладь!
Поводья свесились, неудержимо время,
А юности нога попасть не может в стремя.
Свой рок преодолеть придет тебе пора,
Лишь только ты уйдешь из этого шатра.
В четвертых небесах прибудешь к серафимам,
Чтоб в сонме светочей все ж сделаться незримым.
Мир — див; храни свой дух — да будет скован див! —
Дух добронравием от дива оградив.
Не делай для себя свой нрав суровый адом.
Пусть раем станет он, ведя других к усладам.
Коль человечен ты, послушай речь мою:
Не только в небесах, но ты и здесь — в раю.
О глаз! Беспечный глаз! Ты мир узри воочью.
Мир обними, как те, недремлющие ночью.
Как долго под землей ты будешь спать, о друг!
Крутящихся небес тебя забудет круг.
Лет пятьдесят игры злокозненной промчится,—
Сей костью глиняной[224] доколь тебе кичиться?
Пусть и пять тысяч лет — срок воровской игры —
Брось кость, ведь все равно играешь до поры.
Что крепче, чем кремень? Под ветра частым взмахом
Он все же стал песком, он стал зыбучим прахом.
О, коврик кожаный — земля![225] И вновь и вновь
На этот коврик льют одну лишь кровь да кровь!
Кровавые дожди впитала эта суша.
Кто мог бы из-под них спасти и Сиавуша?
В песчинках взвившихся, что закрутил бурун,
Несется Кейкобад иль мчится Феридун.[226]
И людям не найти на всем земном покрове
Горсть глины без людской, людьми пролитой, крови.
Кто знает, что таил сей вековечный храм,
Счет вечерам его и счет его утрам?
Столетие пройдет, — и все течет сначала.
Лишь век умчится прочь, — уж век другой примчало.
И с веком человек свой также кончит век,
Чтоб он на сущность дней своих не поднял век.
Но что в крупицах дней среди тысячелетий
Увидеть сможешь ты иль услыхать на свете?
Все ж и добро и зло в столетье каждом есть,
И в том для мудрого о некой тайне весть.
Коль ты не хочешь быть в гонении бескрайном,
Ты век не поучай другого века тайнам.
Чреда ночей и дней, что пегий конь, летит.
От бега времени ничто не защитит.
Хоть ты на сто наук свершил свои набеги,
Тобой не будет взят в поводья этот пегий,
Себя боготворить не должен ты, о нет!
Забвение себя — спасения завет.
Котел земли кипел по воле звезд, но что же?
Необработанной земля подобна коже.
Небес игорный дом, незримый для очей,
Все деньги отобрал у многих богачей.
Иль кажется тебе, что ты с невестой? Мудрый!
Мечту на ветер брось, не будь с сереброкудрой.[227]
Быть может, грянет смерч, и злой его полет
Невесту — жизнь твою — с землею разведет.
Придет ли смерч иль нет, забудь свою усладу.
Не зажигай в ночи напрасную лампаду.
На горсти праха ты. В твоей горсти лишь прах.
Хоть руку для земли зажег бы ты впотьмах,
Ей будет нипочем твою увидеть муку,
Ей не присыпать, нет, израненную руку![228]
Нам тягостная плоть созвездьями дана,
Так часто мучима недугами она!
Ведь с кровли прыгнуть вниз нетрудно. Только в злости
Твой неизбежный рок тебе сломает кости.
Но люди, что во сне не ощущают тел,
Не смогут пострадать от многих сотен стрел.
Свое дыхание, что управляет нами,
Мы ветром осени прикармливаем сами.[229]
Но мертв твой каждый вздох, когда в нем нет любви.
Твой каждый вздох сочтен; ты страстно проживи.
Ты, умирая, смерть встречай бесстрашным взглядом,
Но в страсти, человек, ты должен быть Ферхадом.
Любил, чтоб на кирку приладить рукоять,
Строитель дерево гранатовое брать.
Была ему кирка помощницею верной,
Всегда сподручною в борьбе его безмерной.
Когда его вещун тоскою захлестнул,
Кирку он за гору в отчаянье метнул.
Кирка впилась в гранит, а рукоять отбило,—
Вошла во влажный прах, а после вот что было:
Гранатовый побег из рукоятки взрос,
И, ставши деревом, гранаты он принес.
И каждый этот плод всех снадобий полезней
И немощных любых излечит от болезней.
Не зрел их Низами, но измышлять не стал,
А в древней книге он об этом прочитал.
Письмо Хосрова к Ширин, выражающее сочувствие, но написанное в насмешку