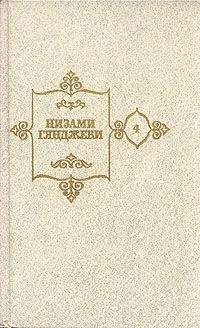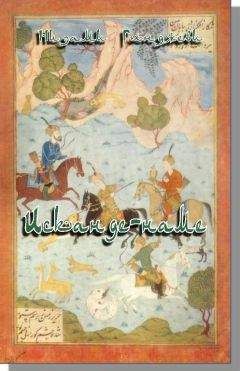Возвращение Хосрова от замка Ширин
Уж солнце, как газель хотанскую, уводит
Веревка мрака в ночь — и вот на небосводе
Газелей маленьких за рядом вьется ряд,—
То звезды на лугу полуночном горят.
Царь, что газель, в чью грудь стрела вошла глубоко,
Внял яростным словам Ширин газелеокой.
И хлопья снежные помчались в мрак ночной,
И капельки дождя[237] мелькали, как весной.
От горести гора слезливой стала глиной.
И сердце ежилось, бредя ночной долиной.
Снег, словно серебро, пронзал окрестный мрак;
И на Шебдиза пал серебряный чепрак.
Звучал упреками Хосрова громкий голос,
Черноволосую не тронув ни на волос!
Как долго он молил, как жарко! Для чего?
Сто слов, — да не годны! Все! Все до одного!
Молил он и вздыхал — был словно пьян — все глубже.
Вонзались стрелы в грудь — о, сколько ран! — все глубже.
И вот еще текла в своем ненастье ночь,
А царь, нахмурившись, от врат поехал прочь.
То он к Шебдизу ник, то, будто от недуга
Очнувшись, все хлестал и торопил он друга.
Он оборачивал лицо свое к Ширин,
Но ехал, ехал прочь. Он был один! Один!
И ночи больше нет, — ее распалась риза,
Но нет и сильных рук, чтоб направлять Шебдиза.
Царь воздыханья вез, как путевой припас;
Он гроздья жемчуга на розы лил из глаз.
«Когда бы встретил я, — так восклицал он в горе,—
Колодезь путевой, иль встретил бы я взгорье,
Я спешился бы здесь, и я б не горевал,
Навеки близ Ширин раскинувши привал».
То вскинет руки царь, то у него нет мочи
Не плакать, — и платком он прикрывает очи.
И вот военный стан. Царем придержан конь,
А сердце у царя как вьющийся огонь.
Серебряный цветок освободили тучи,
И месяц заблистал над этой мглой летучей.
И царь вознес шатер до блещущих небес,
Для входа подвязав края его завес.
Но не прельщался царь всей прелестью вселенной,
Он сердце рвал свое, как рвет одежды пленный.
Он, позабыв покой, сжав пальцами виски,
Не поднимал чела с колен своей тоски.
Придворным, и ловцам, и стражам, и дестурам
Царь повелел уйти; остался он с Шапуром.
Как живопись творя, стлал пред царем Шапур
Узоры, говоря: «Не будь, владыка, хмур».
На пламень горести он лил благую влагу.
Смеяться в горький час имел Шапур отвагу.
«Тебя от горечи хочу я уберечь,
Поверь, нежна Ширин. Ее притворна речь.
Столь омрачившимся останешься доколе?
Ты рвешься к финикам, так знай — и пальма колет».
Хосров — он не сводил с Шапура жадных глаз —
Обильным жалобам открыл потайный лаз:
«Ведь видел ты, с какой пришла ко мне отравой
Та, что весь мир смутит улыбкою лукавой?
И бог не страшен ей! Смела, дерзка она!
Ну что же, женщина, так значит — нескромна.
Я шапку снял пред ней и бросил пред собою.
Как стройный кипарис, я встал пред ней с мольбою.
Но оттолкнула трон с порфирою она,
Ствол царственный снесла секирою она.
В мороз ее душа не сделалась горячей.
Ее безжалостность увидел каждый зрячий.
И речь ее была — секира и стрела.
В словах почтительных так много было зла.
Есть тернии в любви, но в этот час вечерний
Без меры я познал уколы этих терний.
Но и в моей груди ведь тоже сердце есть.
И злоба тоже ведь у страстотерпца есть.
Пусть, как Харут она, слетавший с небосклона,
Пусть в родинке ее все чары Вавилона,
Но так был холоден ее зимы налет,
Что для меня Ширин уж не Ширин, — а лед.
Но от моей любви, терпевшей поношенья,
Мне ведом — о Шапур! — источник утешенья.
Ребенка скверный нрав известен мамке. Нет
Соседа, чтоб не знал, каков его сосед.
Ширин — мой тайный враг! Мрак под личиной света.
Таится ненависть под нежностью привета.
Как жаден был мой пыл, как был напрасен он!
И вот, отверженный, рассудка я лишен.
Не слушала она; крутилась непогода;
И речь моя текла как будто больше года.
Мне в тьме полуночной свечи не принесла.
Бальзама мне от ран в ночи не принесла.
Хоть встретить Сладкую для каждого отрада,
Хоть сладостна Ширин, — мне новых встреч не надо!
Ведь встреча всех обид мне не искупит, нет!
Ведь с горьким вкусом хлеб никто не купит, нет!
Быть под ногой слона, быть мертвым на кладбище
Отрадней, чем просить у злого скряги пищи.
Быть лучше под водой, быть рыбой, чем свои
Моления нести в пристанище змеи.
Отрадней землю рыть. Да! Лишь не довелось бы
В дом недостойного свои направить просьбы!
Жемчужин чистых блеск не в чистых ли морях?
Кто роет черный прах, — найдет лишь черный прах.
Покинь пустую копь! Иль, чтоб душа угасла,
Мне быть светильником, в котором нету масла?!
Жизнь стоит ли вручать той прихотливой, той
Лукавой, для кого она лишь звук пустой?
Клянусь, еще таит подлунная долина
С павлином равную подругу для павлина».
Шапур убеждает Хосрова, что все поведение Ширин — лишь обычный женский каприз. Она еще сама придет к шаху. Следует подождать.
Ширин сожалеет об отъезде Хосрова
Тот, ветхий днями, муж, что положил начало
Рассказа, — продолжал. И вот что зазвучало:
Жестокосердая, прогнавшая царя,
Себя бьет камнем в грудь, раскаяньем горя.
Она корит себя, и что ни слово — слезы.
И снова все текут, текут все снова слезы.
Как птица сбитая, металась и не раз
На землю падала, закрыв нарциссы глаз.
Клеймя свой гордый дух, рыдала, — в то же время
Бия ладонями и грудь свою, и темя.
И вздохами ее был воздух обожжен.
Земля столь горьких слез не видела у жен.
Нет силы, чтоб сдержать порывы горькой страсти,
Чтоб сердце усмирить, нет во вселенной власти.
Когда ж душа ее вконец изнемогла,
Стыда тяжелого ее объяла мгла.
И вот подпружен конь — Гульгун ее прекрасный.
Душа ее в крови, и конь кроваво-красный.
На рыжеогненном и взвихренном коне
Она — как блеск воды на трепетном огне.
Тропа узка, как бровь; как у прекрасной косы,
И небеса черны, и горные откосы.
И на крутой тропе, стегая жеребца,
На помощь в этой тьме звала она творца.
Но глушь и трудный путь Гульгуну — не препона,
И он помчал Ширин быстрее небосклона.
Одеждою слуги свою стянувши грудь,
Она Шебдизу вслед направила свой путь.
И вот сквозь гулкий гром, сквозь громозвучный топот
Порой был слышен плач, порой был слышен ропот,
И взор вперяла в тьму Луна прекрасных луп…
К шатрам охотничьим примчал ее Гульгун.
Военачальники уснули; тишь; и даже
У царского шатра нет переклички стражи.
Все, словно опиум, впивая лунный свет,
В курильне ночи спят. Нигде движенья нет.
И смущена Ширин: к царевому порогу
Она приблизилась, да в ком найдет помогу?
Но из-за полога Хосровова шатра
Шапур глядит, — что там? Не света ли игра?
Лишь миг тому назад, охваченный истомой
Сиянья лунного, царь был окован дремой.
И, слугам не сказав, туда, где встал Гульгун,
Шапур идет взглянуть, кого примчал скакун.
Он молвил всаднику: «Как призрак, ты прекрасен,
Но если ты не тень, то твой приезд опасен:
Тут и с напавших львов кичливость мы собьем.
Заползшая змея тут станет муравьем».
Но отступил Шапур пред этим нежным дивом,
Смущен его лицом и действием учтивым:
Ширин художника узнала; отняла
Сапожки от стремян и спрыгнула с седла.
Лик разглядел Шапур; длань поднял он к кулаху
И вскинул ввысь кулах, а лбом склонился к праху.
И молвил он: «Луна! Всем страждущим глазам
Прах из-под ног твоих — целительный бальзам».
Ответила Ширин словам его достойным
Со взглядом ласковым, для женщины пристойным.
И за руку она взяла его, и он
Услышал все и был не очень удивлен.
Услышал он о том, что слезные потоки
Стыда, раскаянья ей обжигают щеки,
Что речь ее с царем была дерзка и зла,
Что недостойные слова произнесла,
Что лишь умчался царь, — укоры зазвучали
В ее душе и дух попал в силок печали.
И говорит она: «Меня объяла тьма,
И не внимала я велениям ума.
Решилась я на все: рок становился хмурым.
Ведь свойственен в беде прыжок тигриный гурам.
И провидением небесным ты сочти,
Что я разбойников не встретила в пути.
Но так как был огонь стремления безмерен,
То путь мой — путь прямой, он правилен, он верен.
Мое доверие ты принял, и оно
Твердит: «Грядущее тебе же вручено».
Две просьбы у меня. Тебе исполнить надо
Их обе, чтоб ко мне опять пришла отрада.
Вот первая, Шапур: когда придет Хосров
На пиршество, под крик: «Да будешь ты здоров!»,
Ты усади меня в укромный угол. Тайна
Да сохраняется! Не выдай и случайно!
Веселый нрав его, подобную лучу
Всю красоту его увидеть я хочу.
Вторая: если царь глазами уж не злыми
Мой встретит взор, то пусть он скажет о калыме[238].
Коль хочешь, о Шапур, исполнить все точь-в-точь,—
Все подготовь, Шапур, покуда длится ночь.
Не хочешь, — на коня я снова сяду; снова
В свой замок возвращусь, не повидав Хосрова».
Две просьбы услыхав, Шапур отверз уста
И клятвы ей дает; их было больше ста.
Гульгуна в стойло ввел он, будто бы Шебдиза.
В шатер он ввел Ширин, как будто бы Парвиза.
Два царственных шатра имел Хосров; они
Мерцали в жемчугах, как звездные огни.
Ближайший — для пиров, а полускрытый, дальний
Служил для отдыха. Он был опочивальней.
Повел Шапур пери воздушную. Вдвоем
Они вошли в шатер, назначенный для дрем.
И прочь пошел Шапур, ей указав на ложе,
И полог опустил, с небесной ризой схожий.
Царя как бы меж роз уснувшим обретя,
Шапур был радостен, как утро, как дитя.
Вкруг «сада роз» кружась и не стремясь к покою,
Он оправлял свечу заботливой рукою.
Сновидение Хосрова и толкование сна Шапуром