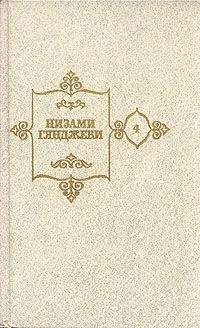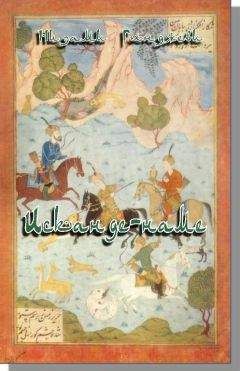На первый взгляд такая приверженность традиции может показаться странной. Действительно, зачем было бесконечно повторять сюжеты, сложившиеся у Низами в известной мере случайно, почему нельзя было взять сюжеты совсем новые, скажем, сюжеты «из жизни»? Выше мы говорили уже об особенностях художественного творчества в средние века. Эстонский исследователь М. Ю. Лотман (см. «Поэтика», Тарту, 1964), отдельные мысли которого о средневековой поэзии использованы в этом предисловии, сравнивает персонажи литературных произведений отдаленного прошлого с масками итальянской комедии дель арте. Эти маски (Арлекин, Коломбина, Пьеро) имели, по традиции, всегда определенные костюмы, грим, характеры, даже акценты определенных областей Италии, но игравшие их актеры не располагали заранее готовым текстом, они играли экспромтом, не выходя за рамки характера. Если применить это сравнение к персонажам Низами и поэтов, писавших ему «ответы», то можно сказать, что Низами — и в том его огромная заслуга — создатель масок великой человеческой драмы, десятки раз разыгранной после него на Востоке его талантливыми, а иногда и гениальными продолжателями. Только таким путем повторения можно было сохранить в средние века великое гуманистическое содержание поэм Низами, донести его до разноязычной многомиллионной аудитории народов Востока, сохранить в виде живой традиции до наших дней. Низами, подобно Горацию, Пушкину, Фирдоуси, сознавал, какой памятник он себе воздвиг. Он несколько раз говорит в поэмах о вечной жизни своих стихов, о том, как они откликнутся на призыв последующих поколений.
Следует добавить, что «маски» Низами и его продолжателей (Хосров, Ширин. Фархад, Лейли, Меджнун) — это далеко не только персонажи старых хроник и преданий. Упомянутый выше Ибн аль-Араби толковал известную библейскую легенду об Иосифе Прекрасном, изложенную и в Коране, следующим образом: Иаков, отец Иосифа, — это символ интеллекта человека, Иосиф — символ любящего сердца, познающего бога, десять братьев — символы пяти внешних (слух, зрение и т. п.) и пяти внутренних (мышление, память и т. п.) чувств, предающих Иосифа, — сердце, которое лишь одно силой любви способно достичь истины. Воплощение в двух персонажах злого и доброго в человеке близко к нашему времени выполнено Гете. Ведь Мефистофель — это лишь злое начало в Фаусте, принявшее, ради художественного исследования противоречий души, форму соблазнителя в красных одеждах… И понятно, что преемники Низами не могли произвольно заменять раз найденные маски его поэм, тем более что, например, «семь красавиц» — это одновременно и семь планет вселенной, властвующих, согласно древнему астральному мифу, над соответствующими свойствами человеческой души.
Рядовые читатели воспринимали, конечно, Фархада, Ширин или Лейли лишь как полные обаяния персонажи поэм. Французский писатель XVIII века Ж. Казот вспоминал, как он зачитывался символической поэмой «Освобожденный Иерусалим» великого итальянца Торквато Тассо (XVI в.) и случайно натолкнулся на том, содержавший объяснения аллегорий этой поэмы. Он остерегся раскрыть его. «Он был страстно влюблен в Армиду, Эрминию, Клоринду и безвозвратно утратил бы столь пленительные иллюзии, если бы эти красавицы были сведены к простым символам». Влюбляясь так же в Ширин или Лейли и не вникая в символику Низами, его почитатели незаметно проникались его идеями.
* * *
Стирая случайные черты, мы осознаем современное значение поэм Низами. Нас удивляют повторения сюжетов «Пятерицы» другими поэтами, но то, что современная хорошая пьеса идет сотни раз с разными актерами, по-иному «прочтенная» каждым режиссером, по-иному воспринятая зрителями, нам представляется вполне привычным. Грань между творчеством и его восприятием не абсолютна. Каждое новое прочтение «Пятерицы», если оно осознано, — это вновь разыгранная человеческая драма, драма, разыгранная одним актером-читателем перед самим собой.
Поэмы Низами стали читать в Европе и России очень недавно; Гете узнал о них по рассказам одного востоковеда и переводам отрывков и, обладая чувством всемирной отзывчивости, сразу понял значение Низами, склонился перед его гением, использовал некоторые его притчи в «Западно-Восточном диване». Востоковедение прошлого века почти не смогло донести Низами до массы европейских читателей — слишком он казался труден. Представляется, что его творчество всегда было и остается очень мало известным в Европе. Но дело не в непосредственном знакомстве с поэмами Низами. Как мы постарались показать, мысли и чувства, выработанные и оформленные поколениями мыслителей и поэтов Востока (в том числе Низами) и Запада, путем сложного синтеза, составили основу нашей культуры. И если притчи Низами можно встретить у Чосера или Боккаччо, то дело тут не в непосредственном знакомстве их с переводами «Пятерицы». Эти притчи шли издалека запутанными и часто неизвестными нам путями.
Русский читатель смог ознакомиться с Низами только в 1940–1959 годах. Во время восьмисотлетнего юбилея поэта в 1947 году было обращено особое внимание на то, что человек для Низами, как и для многих мыслителей, начиная с античной древности — существо общественное. Наряду с погружением во внутренний мир, «круги ада и рая», медитациями, попытками, кажущимися нам сейчас иногда наивными, выяснить «анатомию» души и вселенной, Низами ясно видит проблемы, возникающие в обществе. Говоря современным языком, главную задачу он видит в перестройке и человека и общества. Он бесстрашно осуждает тиранию и бесправие, с гневом говорит о власти золота, о жестокости, о бессмысленных кровопролитиях. Как ни абстрактна и ни субъективна его утопия — совершенное общество, — она имеет отношение и к земным делам. Он только считает, что царство справедливости должно быть построено сперва в душе человека, и лишь тогда исчезнет зло мира. Нельзя забывать, что Низами жил восемьсот лет назад.
В наши дни, когда решение главных общественных проблем стало насущной необходимостью и реальной возможностью, мы читаем Низами с иным чувством, чем его современники. За нами еще восемьсот лет опыта всего человечества, мы видим, как гуманизм, активная любовь к человеку постепенно обретала реальность, из абстрактных норм превращалась в общественные институты, закреплялась строем общества. И мы видим одновременно непознанное и несделанное, перед нами стоят проклятые вопросы так же, как они стояли перед Низами. И мы рады осуществленному, оно дает нам основание с надеждой смотреть вперед и неустанно идти путем добра и правды, которым люди идут с трудом, оступаясь, уже тысячелетия.
А. Бертельс
Перевод К. Липскерова и С. Шервинского
«В прославленье Аллаха, что благом и милостью щедр!»[3]
Вот к премудрости ключ, к тайнику сокровеннейших недр.[4]
Мысли первоисток, изреченных словес завершенье —
Имя божье, и им ограничь ты свое изложенье.
Испокон пребывающий, сущего предбытие,[5]
Вековечней в себе, чем явленное вслед бытие.
Вечный вечности вождь, изначально начальный над нею,
Что каламу времен[6] ожерелье накинул на шею.
Всех творец родников,[7] источающих жизни струю,
Жизнедавец, всему давший быть бытием бытию.
Он раздернул завесу у скрытых завесой небес,
Он, держащий завесу хранителей тайны завес.
Он для пояса солнца их яхонтов создал набор,
Наряжает он землю, на воды наводит узор.
Поощряет он тех, кто свой внутренний мир изощряет,[8]
Сытых хлебом насущным сиянием дня озаряет.
Жемчуг знаний он нижет на тонкую разума нить,
Он для разума — свет, его глаза не даст он затмить.
Ранить лбы он велит правоверным в усердных поклонах,
Он дарует венцы на земных восседающим тронах.
Не дает он сбываться тому, что людьми решено,
Преступленье любое по воле его прощено.
Устроитель порядка средь гама пришедших в смятенье,
Он источник для тех, кто удачные знает решенья.
Он конец и начало извечно и впредь бытию,
Сущим быть и не сущим он может велеть бытию.
При всесилье его, что в обоих мирах не вместится,
Все, что в нас и при нас, лишь коротким мгновением мнится.
В долговечной юдоли вселенной, помимо творца,
Кто воскликнуть бы мог: «Для кого здесь сиянье венца?»
Все и было и не было, все, что высоко и низко,
Может быть и не быть, от не сущего сущее близко.[9]
Даже мудростью тех, кто воспитан с предвечных времен,
Этот трудный вопрос и доныне еще не решен.
Из предвечности знанье его — о пучина морская! —
Вечно божие царство, подобие степи без края.
Все, где действует жизнь, проявляя свое естество,—
Лишь служенье раба перед вечным господством его.
В сад телесный тебе посылает он гурию рая,
Свет нарциссов твоих[10] — это воля его всеблагая.
Благодарности полн, славословит бесчисленный хор
Имя божье на шапке земли и на поясе гор.
За завесою света скрывались щедроты творенья,—
Сахар был с тростником, были с розой шипы в разобщенье.
Но лишь дал он щедротам цветенье, щедроты лия,
Тотчас цепь бытия разрешил он от небытия.
В неуемном стремленье к двум-трем деревням разоренным[11]
Было небо в смятенье, неявное в несотворенном.
Узел, мысль сожигающий, не был еще разрешен,
Локон ночи тогда был ланитами дня полонен.[12]
Только жемчуг небес[13] нанизал он в ряды узорочий,
Пыли небытия не оставил на локонах ночи.
Из кругов, что на небе его изволеньем легли,
Семь узлов[14] завязал он, деля ими пояс земли.
Стало солнце в кафтане являться, а месяц в халате:
Было этому белое, этому черное кстати.
Тучи желчный пузырь из морских он исторгнул глубин,[15]
Светлый Хызра источник из злачных извлек луговин.
Утра полную чашу он пролил над темною глиной,
Только камня устам не достался глоток ни единый.
Из огня и воды,[16] их мельчайшие части смешав,
Создал яхонта зерна и жемчуга жирный состав.
Ветер слезы земли, лихорадя, загнал нездоровый
В печень камня, и яхонт родился, как печень, багровый.
Стал как небо цветущ вертоград его божьих щедрот,
Птицу речи он создал, что небу на радость ноет.
Пальме слова он финики дал, что отрадны для духа,
Жемчуг он языка не оставил без раковин слуха.
Посадил за завесу безмолвную голову сна,
Им и водному телу одежда души придана.
Кинул пряди земли он на плечи небесные прямо,
Непокорности мушку навел на ланиту Адама.[17]
С лика золота он отпечаток презрения смыл,
Крови лунные розы он тучкой весеннею смыл.
Ржу воздушную снять поручил он светилам лучистым.
Душу утренних ветров он травам доверил душистым.
В глине бьющую кровь там, где печень сама, поместил,
Где биение сердца, биенье ума поместил.
В утешение губ приказал появиться он смеху,
Он Венере велел стать певицею,[18] ночи в утеху.
Полночь — божий разносчик, он мускус продаст дорогой,
Новый месяц — невольник со вдетою в ухо серьгой.
О стопу его речи, чьи силы от века велики,
Камень лоб раздробил у шатра, что достоин владыки.[19]
Легковесная мысль вкруг него исходила пути,
Но с пустыми руками от двери пришлось отойти.
Много троп исходив, сокровенной не вызнали тайны,
Равных с ним не нашли, все дела его — необычайны.
Появился и разум, его я на помощь призвал,—
Но постиг свою грубость и сам же его наказал.
Тот, в кого острием его циркуль однажды вонзился,
Тот, как месяц, навек к постиженью его устремился.
Кто на небе седьмом восседает, — стремятся к нему,
Кто по небу девятому ходит, — стучатся к нему.
Небосвода вершина в уборе его ожерелий,
Страстью недра земли: изначально к нему пламенели.
Те сердца, что, как души, святой чистотою горят,
Только прахом лежать притязают у божиих врат.
Но из праха у врат его зернышко вышло такое,[20]
Что пред садом его сад Ирема — сказанье пустое.
Так и прах Низами, что изведал поддержку его,—
Нива зерен его и единства его торжество.
Первое моление о наказании и гневе божием