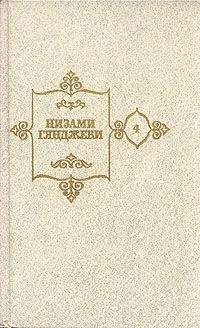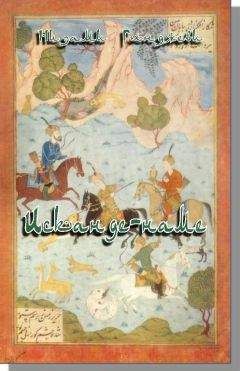О вознесении пророка[29]
Полунощной порой, лишь полдневного светоч владыки
Из недвижности вышел и мир озарился великий,
Стали солнцу носилками очи небес девяти,
А Венера с Луною огни обязались нести.
Он в святилище здешнем оставил все стороны света,
Бросил семь поясов и все шесть направлений предмета.
День покинули стопы его, отлетевшие прочь,
На его появленье раденьем ответила ночь.
Слиплись веки у тех, что с глубинами тайн незнакомы,
Он меж тем скакуна повернул, удаляясь от дремы.
Вместе с клеткой плотско́й из земной унеслась западни
Птица сердца туда, где покой и блаженство одни.
Птицы, даже и ангелы с ним не тягались в полете,
И радел небосвод, скинув платье с лазоревой плоти.
У божественной птицы и клетка расправила крылья,
Оболочка его, легче сердца, неслась без усилья.
Шаг за шагом, когда возносился он прочь от земли,
Ввысь и ввысь небеса его в страхе смиренном несли.
И глядели насельцы обоих миров на пророка,
И в поклоне земном головами склонялись глубоко.
Он последней ступени коснулся ногой, но за ней
Поднялся и еще на божественных сто ступеней.
Скакуна с его стойлом высоким внизу он оставил,
О попоне заботу оставшимся здесь предоставил.
Он жемчужиной стал, обретенною в мире земли,
Небеса же ее до венца божества донесли.
Ночью темной, как амбра, жемчужину неба ночного
Бык небесный похитил, изъяв из ноздри у земного.[30]
И когда наступил путешествию должный конец,
Близнецы ему дали свой пояс и Рак — свой венец.
Неба Колос[31] расцвел при одном появленье пророка,
Этот Колос расцветший от Льва он отбросил далеко.
Чтоб измерить, насколько той ночи цена велика,
На Весах ее вес проверяла Венеры рука.
Но столь грузную гирю не взвесить такими весами,—
Легче гири тяжелой весы оказалися сами.
И пока проносился пророк меж сияющих звезд,
Чашу противоядья излил Скорпиону на хвост.
Вдаль метнул он стрелу, где его проходила дорога,
Ею был уничтожен губительный вред Козерога.[32]
Стал Иосифом в Кладезе, солнцу подобно, пророк,
Стал Ионою Рыб, ибо Кладезь от них недалек.[33]
И лишь в знаке Тельца он поставил Плеяды престолом,
Сразу войско цветов разбросало палатки по долам.
И лишь в горнем саду на лужайке раскрылся цветок,
Наступил на земле расцветания вешнего срок.
После с неба седьмого повел он почтительно речи,
У пророков прощенья просил, что зашел столь далече.
Звездный занавес неба шаги разрывали его,
На плече своем ангелы знамя держали его.
Полночь мускус наполнил дыханья его неземного,
Полумесяцем в небе коня его стала подкова.
В эту темную ночь даже молния в беге своем
Не могла бы поспеть за его быстроногим конем.
Словно сокол с шажком куропатки, с пером голубиным,
Уносился Бурак, лучезарен, к небесным глубинам.
Вечный «лотос предела»[34] — сорочки пророка перед,
Край девятого неба задел он, свершая полет.
Стала днем эта ночь — дня прекрасней земля не знавала!
Стал цветок кипарисом — прекрасней весны не бывало!
Из нарциссов и роз, что в небесном саду разрослись,
Глаз-нарцисс лишь один насурьмлен был стихом: «Не косись!»[35]
Лишь девятых небес по ступени достиг бирюзовой
Цвет нарцисса, руками подхваченный снова и снова,—
Его спутники вдруг побросали щиты в забытьи,
Поломали воскрылья, развеяли перья свои.
А пророк чужестранцем, чья долго тянулась дорога,
В дверь смиренно кольцом постучал на пороге чертога.
И, завесою скрыты, тотчас охранявшие дверь
Пропустили его, — одинок он остался теперь.
Шел он дальше без спутников, по неизвестной дороге,
Сам теперь он не ведал, куда приведут его ноги.
А другие остались и внутрь не проникли за ним,
Он же вдруг изменился: не прежним он был, а иным.
Засияли венцом его ноги на темени мира,
И девятое небо ликуя с ним жаждало пира.
И по буквам девятого неба провел он калам,
С рукава у небес он списал сокровенный «а-лям».[36]
Длилось мерно дыханье в своем обиталище тесном,
Обладатель души подвигался в обличье телесном.
Наконец он и края девятого неба достиг,—
И остались в пророке душа лишь и сердце в тот миг.
К дому сути своей поспешало весомое тело,
Очи стали такими, что нет изумленью предела.
Очи, коим доступен предвечный божественный свет,
Мы представить не в силах, и слов подобающих нет.
Свой возвышенный путь продолжал он, исполнен величья,—
От себя он отбросил завесу земного обличья.
Лишь на путь запредельный вступил он, его голова
Поднялась, чтоб ее не стеснял воротник естества.
Высочайшие помыслы сердца, чей свет беспределен,
Там достигли привала, где всякий привал уж бесцелен.
За завесу проникнуть стремленье объяло его,
Но смятенье пред местом вперед не пускало его.
И откинула вскоре завесу рука единенья,
И небесный стал виден дворец через дверь поклоненья.
И нога голове уступила способность войти,—
Ничего совершенней душа не могла бы найти!
Он ступил, но стопа не ступала: исчезла основа,
Он подпрянул, но места не мог обрести никакого.
Как значенье из слова, пророка был выявлен свет.
Было принято «слово» и сказано было «привет!»
Чудо вечного света, который вовек не убавить,
Лицезрел он очами, — но их невозможно представить!
Лицезренью его были чужды случайность и суть,
За случайность и суть далеко перешел его путь.
До конца, безусловно, как мудрые молвят неложно,
Бога он лицезрел: лицезрение бога возможно.[37]
Да не будет же скрыто, что на́ небе видел пророк.
Да ослепнет сказавший, что бога он видеть не мог.
Он не зрел божества никакими иными глазами,
Видел этими самыми, видел земными глазами!
Вне пространства и места он эту завесу узрел,
Он вне времени шел, в недоступный проникнув предел.
Каждый, кто ту завесу узреть получил дозволенье,
Был допущен туда, где отсутствуют все направленья.
Есть и будет Аллах, но в каких-либо точных местах
Нет ему пребыванья, и кто не таков — не Аллах.
Отрицая незыблемость божью, порвешь ты с исламом,
Бога с местом связуя, невеждою будешь упрямым.
Бог вино замешал, эту чашу пригубил пророк
И на прах наш невечный из чаши той вылил глоток.
Вечносущего милость его провожала дыханье,
Милосердье его исполняло пророка желанья.
Губы сластью улыбки изволил украсить пророк,
Правоверных к молитве своим он призывом привлек.
Каждый помысл пророка изведал богатство свершенья,
И увидел пророк всех желаний своих исполненье.
Стал он мощен, побыв в той обители рядом с творцом,
И к мирской мастерской, возвратясь, обернулся лицом.
Горний путник любовь нам в подарок принес благодатно,
Он в мгновенье одно отлетел и вернулся обратно.
Ты, чьи речи печатью замкнули наш смертный язык,
Ароматом своим животворно ты в души проник.
Пусть же щедрость твоя, о всевышний, не знает предела,—
Помоги Низами до конца довести его дело.