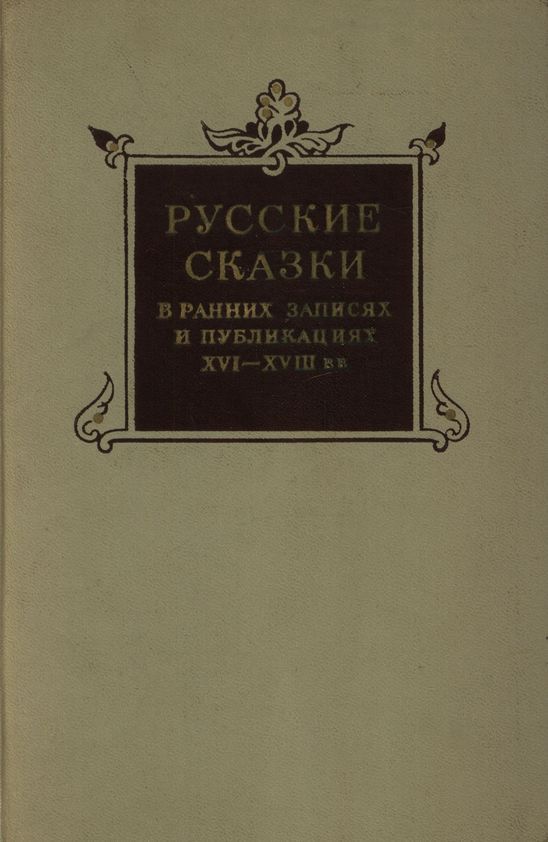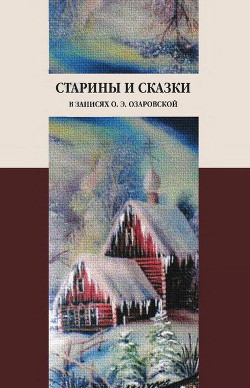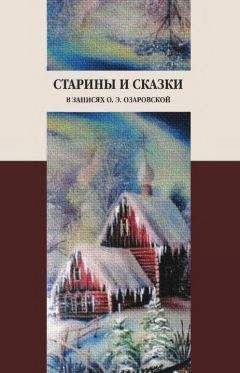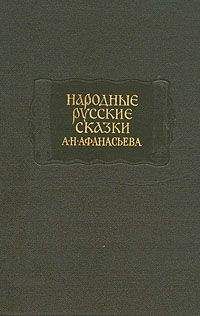чем будет сказано несколько ниже). Что касается третьего пути ее распространения — рукописного, то он никак не может быть назван в числе основных. И потому нет ничего случайного в том, что разыскание народной сказки в архивных фондах не приводит к каким-либо новым открытиям. Впрочем, почти полное отсутствие сказок в рукописях, носящих литературный, а не деловой, официально-канцелярский характер, весьма примечательно не только для XVIII века, но и для всего предшествующего ему исторического периода.
Как подметил С. Ф. Елеонский, в XVIII веке «путем переписывания распространялись лишь те из сказок, которые не являются типичными представителями этого жанра, а стоят на переходе от произведений иных литературных видов». [61] К ним он относил сказку-песню о Ереме и Фоме, сказки-повести о суде Шемяки и Ерше Ершовиче, повесть о куре и лисице, историю-сказание о Мизгире, т. е. такие произведения сатирико-юмористического содержания, истоки которых уходят в литературу.
Пытаясь ответить на вопрос, почему подлинно народная сказка в рукописях литературного назначения встречается как исключение, исследователь писал: «Надо думать, что хранители нашего рукописного наследства, старинные русские писцы и книгочеи, не придавали народным сказкам литературного значения и просто не считали их достойными записывания». [62]
Такой ответ, естественно, вызывает встречный вопрос, почему же в таком случае эти писцы и книгочеи охотно распространяли путем переписывания не только произведения, подобные Ершу Ершовичу или суду Шемяки, но и сказки о Еруслане Лазаревиче и Бове-королевиче, воспринимавшиеся на Руси не как «захожие повести», а как подлинно национальный фольклор.
На наш взгляд, все дело заключалось в том, что подлинно народные сказки являлись широко известным общенациональным достоянием, их знал и стар и млад; отличаясь простотой композиции и художественной формы, они целиком и полностью были рассчитаны на устное бытование и потому без предварительной записи хорошо укладывались в памяти народных рассказчиков в виде отработанных и количественно ограниченных сюжетных схем и традиционных словесных формул, лишь дополняемых подробностями импровизационного характера.
Пытаясь хотя бы предварительно объяснить причину скудости устных сказок в рукописных сборниках XVIII века, М. Н. Сперанский писал: «По-видимому, устная сказка в XVIII веке жила еще полной жизнью. Она была видом устной словесности, очень распространенным не только в низших слоях грамотного городского общества (не говоря о неграмотной крестьянской массе)». [63]
Иная картина встает перед нами, когда мы обращаемся к произведениям, заимствованным из литературных источников, в том числе переводных. Такие произведения менее закреплены, а то и вовсе не закреплены в устной передаче, нередко аллегоричны по содержанию, часто украшены рифмами, аллитерациями и т. п., либо обширны и многоплановы, как например сказки о Еруслане Лазаревиче и Бове-королевиче, запомнить которые во всех перипетиях не представлялось возможным. Отсюда и возникает вполне законное желание закрепить их на бумаге, тем более что для иных грамотеев эти занятия превращались в дополнительный источник заработка. [64] К тому же, естественно, читателя больше занимала литературная искусственная сказка, нежели устная, которая была «обычным развлечением не только в крестьянском быту, но и в мелкопоместном (деревенском), дворянском и мещанском (городском)». [65]
В этой связи, как нам кажется, будет не лишним привести неодобрительный отзыв безымянного рецензента «Санкт-Петербургского вестника» о трех «подлинно народных сказках», [66] вошедших в сборник В. Левшина «Русские сказки».
«Из прибавленных писателем новых сказок, — писал рецензент, — некоторые, как-то: „О воре Тимохе“, „Цыгане“ и пр., с большею для сея книги выгодою могли бы быть оставлены для самых простых харчевень и питейных домов, ибо всякий замысловатый мужик без труда подобных десяток выдумать может, которые ежели все печати предавать, жаль будет бумаги, перьев, чернил и типографских литер, не упоминая о труде господ писателей». [67]
Вполне понятно, что сказки, подобные Бове-королевичу или Еруслану Лазаревичу, обычно не рассказывались, а читались, что и подтверждается мемуарами, эпистолярной и художественной литературой, начиная уже с XVII века.
«...все вы, — с явным укором пишет, например, И. Бегичев к С. Л. Стрешневу в письме от 40-х годов XVII века, — кроме баснословныя повести, глаголемые еже о Бове-королевиче и мнящихся вами душеполезные быти, иже изложено есть от младенец, иже о куре и лисице и о прочих иных таковых же баснословныя повестей и стихотворных писм, — божественных книг и богословных дохмат никаких не читали». [68]
Куратор Московского университета В. Е. Ададуров (XVIII век), пересылая акад. Миллеру «Сказки тысяча одной ночи» в переводе И. Богдановича, заявляет: «Кому не скучен Бова-королевич, тому и оные ночи не наскучат. Но как и сказки могут к читанию проиизвести привычку, так и оные повести как забаву, так и некоторую пользу в себе заключают». [69]
Отмечая, что в харьковской бурсе (конец XVIII века) очень трудно было достать что-либо из художественной литературы (книжных лавок в городе не было, а у частных лиц книги были большой редкостью), Я. В. Толмачев вспоминает: «Мне понятно и теперь — с какою жадностью студенты читали Полициона и Бову-королевича, перехватывая их друг у друга». [70]
В повести «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и сообщества» приводится такое рассуждение одного из ее персонажей Петра Развратина: «Прочти деревенскому дворнику, который не выезжал из села своего и провождал в нем все время с одними писарями и девками, прочти ему Хераскова Россияду, он многого не поймет в ней; но сражения богатырей ему понравятся; прочти ему после приключения Еруслана Лазаревича, они ему также понравятся, и, может быть, нелепая сказка одержит в его уме преимущество над бессмертною поэмою». [71]
Помещик-самодур и невежда Самохвал, когда ему ставят в упрек, что он детей ничему не учит, «окроме ябеды», и потому от них никакой пользы не будет отечеству, отвечает: «Что за науки: я сам ничему не учен и ничего более не читал, как Бову-королевича, да Еруслана Лазаревича, да вить живу». [72]
Не оставляет сомнения, что своей популярностью в России «Бова» («Кто такой Бова-королевич, — писал Н. Львов, — во всякой передней можно осведомиться»), как и «Еруслан Лазаревич», обязан прежде всего рукописной и печатной литературе.
Из немногих сказок, дошедших до нас в рукописных сборниках XVIII века литературного назначения, следует прежде всего назвать «Сказку об Иване Белом» (№ 7). [73] Обобщающую и точную характеристику этой сказки дал Савченко, подчеркнув, что эпическая форма ее «выдержана очень хорошо». Он также отметил в языке записи сказки «явные малоруссизмы». [74] В дальнейшем положение Савченко было конкретизировано и развито С. Ф. Елеонским. Исследователь указал на хорошую сохранность старинной сказки, записанной живо и непритязательно писцом-рассказчиком, с удержанием архаизмов в языке, сказочного зачина, рифмованных созвучий, эпических формул и общих мест, троекратных повторений, часто сопровождающихся