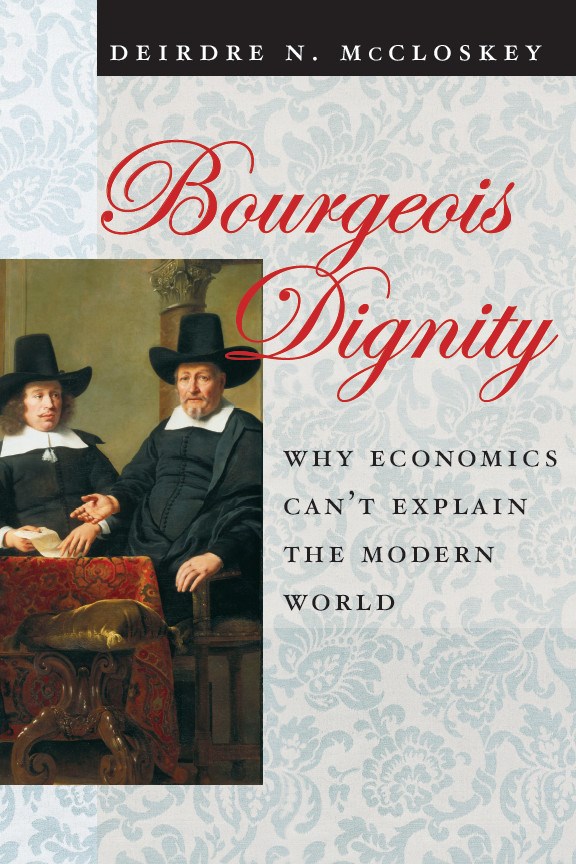грамотность. Грамотность мужчин в Англии, как утверждает Кларк, в средние века примерно равнялась доле монахов в мужском населении - отсюда выгода от того, что священнослужитель мог ходатайствовать против преступлений. Неграмотные монахи были не то чтобы неизвестны, но редки (хотя среди светского духовенства неграмотность была, пожалуй, более распространена). Затем грамотность мужчин в Англии выросла, возможно, до 30% в 1580 г. и до 60% к моменту начала ведения национальной статистики в 1750-х годах, что сопоставимо с уровнем грамотности в Японии того времени.
Подумайте об этом. Если вы являетесь родителем четырех детей и умеете читать, какова вероятность перехода, что все четверо ваших детей будут читать? Она чрезвычайно высока, особенно если вы - мать семейства, во всяком случае, в обществе, которое по каким-то причинам ценит грамотность. Именно ценность грамотности в обществе, а не просто наследственность, определяет ее передачу по наследству. Так, в современных семьях "поступление в вуз" передается исключительно по наследству, но в одном поколении. Когда это происходит, это происходит быстро и навсегда. Дети, внуки и правнуки Мишель Обамы будут учиться в университете. Однако в аргументации Кларка посещение университета должно быть сразу регрессом к среднему значению ценностей, которые были бы применимы, если бы это объяснялось генетикой, а не окружающими социальными ценностями.
Студенты университетов были бы неграмотными. Но это явно не так. Мой отец был первым в своей семье, кто окончил университет (Висконсинский университет в Мэдисоне, 41-й год, чемпион межвузовского турнира по прямому бильярду 1942 года). Все его трое детей поступили так же (но без отличия в университете), оба моих ребенка поступили, и, несомненно, двое моих внуков тоже поступят. Все пятеро детей брата моего отца (который в конце 1920-х гг. ушел из Висконсинского университета после двух лет обучения) закончили университет, и их дети до сих пор в подавляющем большинстве окончили университет. Это происходит благодаря социальным установкам, а не менделевскому наследованию.
Точно так же, оглядываясь назад: в отличие от моих ирландских предков, многие из моих норвежских предков на Хардангер-фьорде, согласно записям, собранным грамотными норвежцами (я могу их вам показать), начали читать уже в конце XVI века и никогда не прекращали. Почему? Из-за наследственности? Нет: очевидно, они начали и продолжали читать благодаря окружающим социальным ценностям, обусловленным протестантской Реформацией - буквальным Deus, которому Кларк в своей книге "Объяснение современной Европы" посвятил восемь слов. Только без религии, пожалуйста: мы демографические исторические материалисты. Обедневшие норвежцы из сельской местности Димельсвик (буржуазные добродетели там не наследуются) быстро научились читать. Эта привычка в первую очередь распространялась по семьям. А попав в семью, она оставалась там, не возвращаясь к среднему значению, в отличие от биологической наследственности. Наследование внутри семьи происходит слишком быстро, "наследование" между семьями слишком сильно, а отсутствие регрессии к среднему значению слишком очевидно для задуманной Кларком истории планомерного развития в течение столетий английского генетического Überlegenheit.
Когда Кларку бросают вызов по поводу его материализма, он становится очень раздражительным. Сравните, как Маркс в 1846 г. отзывается о Прудоне, чьи труды Маркс (воспитанный как гегельянец) называет "гегельянским мусором". . . . Это не история, это не профанная история - история человечества, а священная история - история идей".16 Кларк ответил на мое утверждение, что он, по его словам, демонстрирует "отвращение к литературным источникам":
Безусловно, потому что они очень ненадежны. То, что люди говорят, какова их скрытая идеология, часто кардинально отличается от их поведения. Заниматься эко-номической историей на основе анализа письменных материалов, таких как законы, политические трактаты и т.д., - это приглашение к ошибке. Приглашение Дейрдре поваляться в культурной грязи - это гарантия того, что мы будем вечно ходить по кругу в экономической истории. Лучше сказать что-то и ошибиться, чем говорить то, что просто не поддается эмпирической проверке.
Как и многие другие экономисты, Кларк считает, что "эмпирический" - это модное слово, означающее "числовой". И поэтому он игнорирует свидетельства опыта, которые не поступают в числовой форме. "Эмпирический", напомним, в переводе с греческого означает "имеющий отношение к опыту", причем как в дневниках и романах, так и в переписях и завещательных описях. Так или иначе, Кларк сказал нечто "подлежащее эмпирической проверке", и это неверно. Многое ясно.
Он не прав, когда отвергает "валяние в культурной грязи", прожитую жизнь, проанализированный текст, рельефный образ. Такая наивно-бихевиористская, позитивистская и материалистическая идеология, господствовавшая с 1890 по 1980 г., отбрасывает половину доказательств, в значительной степени более решающих, чем сомнительная "выборка" показателей рождаемости из Восточной Англии. (Ян де Врис заметил по поводу книги Кларка: "Если бы эту книгу писал историк, ее подзаголовок мог бы быть таким: Some Findings from Suffolk Testators, 1620-1638.")18 Историк не может делать свою науку, опираясь только на цифры, привязанные к региональным выборкам 1620-1638 гг. Действительно, как отмечают такие эконометристы, как Чарльз Мански, и как подчеркиваем мы со Стивеном Зилиаком, идентификация того, что является существенным в цифрах, никогда не заложена в самих цифрах. "Проблемы идентификации не могут быть решены, - пишет Мански, - путем сбора большего количества однотипных данных". Они "могут быть облегчены только путем использования более сильных предположений [основанных, скажем, на прожитой жизни] или путем инициирования новых процессов выборки, которые дают различные типы данных [скажем, в анализируемом тексте и значимом изображении]".19 Кларк настолько враждебен к литературной и философской стороне своей культуры, что он упорно продолжает скакать, недооцененный, на одной ноге.
Таким образом, социо-неодарвинизм Кларка, почерпнутый недавно из статей некоторых экономических теоретиков о теории роста, мало что может рекомендовать в качестве истории, применимой к прошлому тысячелетию.20 Эта проблема характерна для современной теории роста в экономике. Это в основном теория со скудной историей; в основном математика со скудными измерениями. Однако теоретики, вдохновившие Кларка, были более научно обоснованными, чем он, в использовании своей аргументации. Этот аргумент, - писали они, - "предполагает, что период времени между неолитической революцией и промышленной революцией [около 10 000 лет] является достаточным для значительных [биологических] эволюционных изменений". Это кажется вполне возможным - например, толерантность к лактозе и алкоголю, похоже, действительно сформировалась за такой промежуток времени. В конце концов, люди, чьи предки не доили своих животных, сегодня болеют от молока, а доение животных - это недавняя практика в более длительной истории Homo sapiens.
Однако Кларк предлагает применить этот аргумент к нескольким столетиям того, что он характеризует как английский мир ("мир", охватывающий Войну Роз [1455-1485], неспокойную эпоху Тюдоров, вызвавшую революцию).
Стюарты, долгий век борьбы с Францией после 1692 г.) - и, как ни