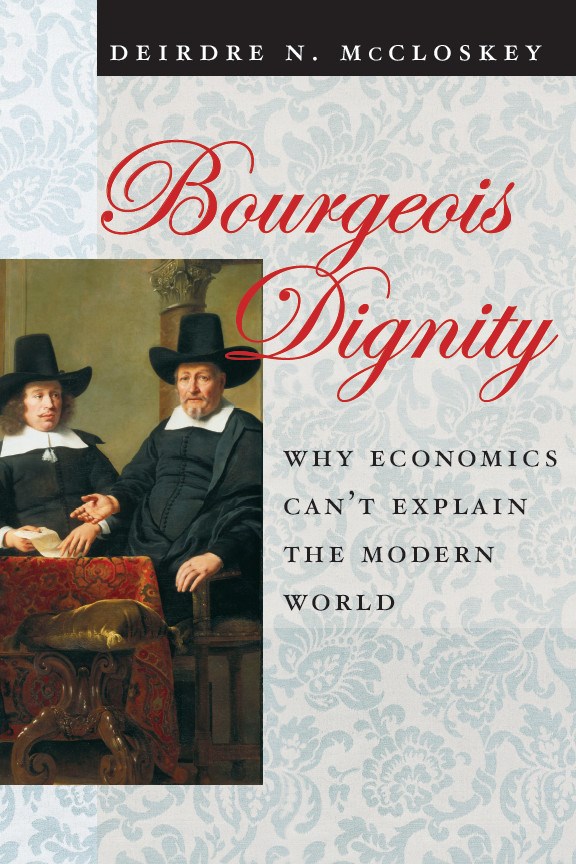обеспечивают рост, что, как я уже сказал, сомнительно. В моей интерпретации, когда речь идет о том, что привычки ума и губ должны предлагать другой вид "стимула для экономической инициативы", это совершенно верно, но не имеет отношения к вопросам строгой эффективности и соседствует с тавтологией: если нет роста, то нет ... роста.
За несколько лет до того, как Норт и Томас высказались громко и смело, я сам, вдохновленный Стивеном Н.С. Чунгом (моим товарищем по университету Чикаго, а позже вдохновляющим коллегой Норта в университете Вашингтона) и Рональдом Коузом, работавшим на юридическом факультете, изучал юридическую историю Англии XVIII века с самуэльсоновскими предрассудками об экономических "стимулах" и "эффективности". Я хотел, чтобы история была связана с переходом от плохого распределения к хорошему, от точки, удаленной от пересечения кривых спроса и предложения, к этому благословенному пересечению. Институты просто позволили этому пересечению произойти. Идея была восхитительной - именно так мне подсказывало мое самуэльсоновское образование и моя фридмановская работа. Но постепенно я понял, что время институциональных изменений в Англии плохо согласуется с экономическими изменениями. Кривые сильно разбегались, в два, а затем в шестнадцать и более раз, что слишком сильно, чтобы быть объясненным обычными изменениями институтов, даже образовательных институтов, которые, в конце концов, уже много раз появлялись и исчезали в истории человечества. В отличие от этого, как я понял спустя десятилетия, произошло очевидное и исторически уникальное улучшение достоинства и свободы буржуазии, что проявилось, например, в изобретении самой науки политической экономии. Окружающие экономику институты были старыми.
Экономисты хотят, чтобы большие изменения были связаны с нордическими "институтами", потому что они хотят, чтобы стимул был главной историей промышленной революции и современного мира. Но предположим, что стимул (только благоразумие) - это не главная история, и не может быть главной историей без парадокса: если бы это было только благоразумие, то промышленная революция произошла бы раньше или в другом месте. Предположим, что большое значение имеют и другие добродетели и пороки - не только благоразумие, любимое самуэльсонианцами, но и воздержание, мужество, справедливость, вера, надежда, любовь, которые радикально менялись в своей диспозиции на протяжении XVII-XVIII веков. Предположим, что идеология, риторика, публичная сфера имели большое значение, и предположим, что они (как и правовые и экономические идеи) часто и быстро распространялись по странам. Вольтер и Монтескье смотрели через Ла-Манш, в результате чего англофилия стала одним из направлений французского мнения и в какой-то степени элементом французской государственной политики. Томас Пейн бродил по миру в поисках стран без свободы и разделял революцию. Предположим, что распространение таких институтов, как достоинство и свобода для буржуазии, однажды выявленных как эф-фективные, например, чтение, происходит как по горизонтали между странами, так и по вертикали во времени. Предположим, что не столько важны институты, рассматриваемые как стимулы и ограничения, сколько сообщество и общение.
Вот над чем стоит задуматься моим друзьям-экономистам. Настаивать на том, что любое изменение в "институтах" - это то же самое, что и изменение в ограничениях, и утверждать вопреки фактам, что эпоха промышленной революции привела к революции в правах собственности, - это по-самуэльсоновски ловко. Но это плохая история и плохое объяснение беспрецедентного экономического события, которое мы пытаемся объяснить. Я не утверждаю, что экономика будет хорошо развиваться при прогнивших институтах. Я также не утверждаю, что в мире нет мест с прогнившими институтами - Зимбабве, повторюсь, выпрыгивает из заголовков. В Зимбабве дела шли бы гораздо лучше, если бы правительство перестало воровать частную собственность и убивать тех, кто жалуется. Я хочу сказать, что богатые страны в реальных исторических событиях имеют довольно хорошие экономические институты, независимо от их сходства или различия в масштабах детального определения идеальных прав собственности профессором права. Такие разные по институтам страны, как Франция и Австралия, имеют практически одинаковый доход на душу населения. Во Франции - римское право, средняя свобода труда и высокий доход на душу населения. В Австралии действует общее право, самая высокая в ОЭСР свобода труда и самое низкое регулирование товарного рынка. И все же эти две страны различаются по реальному ВВП на душу населения с поправкой на покупательную способность всего на 3 тыс. долл. из 30 тыс. долл. Подобный гарберговский дифференциал точно не объясняет современный мир. Когда-то обе страны зарабатывали 8,22 долл. на голову в день, что в современных американских ценах составляло 3000 долл. в год. Теперь они зарабатывают в десять раз больше и вошли в современный мир.
Короче говоря, не похоже, что изменения в "институтах" имеют большое отношение к промышленной революции. Может быть, и можно верить в то, что хорошие институты собственности и контрактов отделяют нас от охотников-собирателей или скотоводов, особенно если не слишком внимательно изучать экономическую жизнь охотников-собирателей или скотоводов. Но, как оказалось, институты собственности и контрактов не сильно изменились в соответствующий период. Иными словами, самуэльсоновские апелляции к "институциональным изменениям" сводятся к очередной попытке свести один из величайших сюрпризов в истории человечества к материалистической рутине, которая по своей природе не может объяснить сюрпризы. Попытка эта исходит из экономики, чистой теории разумного материализма. Как писал Токвиль в 1834 г., "все усилия политической экономии сегодня, кажется, направлены в сторону материализма", и так оно и было с 1890 по 1980 г., даже за пределами самой политической экономии. "Я хотел бы, - продолжал он, - попытаться представить идеи и нравственные чувства как элементы процветания и счастья" .
Глава 38
Мы возвращаемся к тому, что реально произошло в 1700-1848 годах, а затем в 2010-м и далее, - к росту доходов на человека в разы к концу, скажем очень консервативно, шестнадцатого века. Происходящее стало осознаваться постепенно в двадцатом веке. Среди многих экономистов и историков экономики это признание постепенно убило представление о том, что бережливое сбережение - это путь к огромным и колоссальным производительным силам. Уже в 1960 г. Хайек поставил под сомнение "нашу привычку рассматривать экономический прогресс как накопление все большего количества товаров и оборудования". В 2010 г. историк экономики Алекс-Андер Филд на основе расчетов изменения производительности труда в США подтвердил первоначальные выводы 1960-х годов о том, что дело в технологиях, а не в накоплении капитала; а в 2006 г. экономист Питер Ховитт пришел к аналогичному выводу на основе межстрановых исследований.
Итак: Великий Факт не был вызван накоплением капитала, столь же желательным, как и система межштатных автомагистралей, оцененная изобретением автомобиля и грузовика. Не было и такого явления, как накопление образовательного капитала. Они предоставляются, если этого требуют