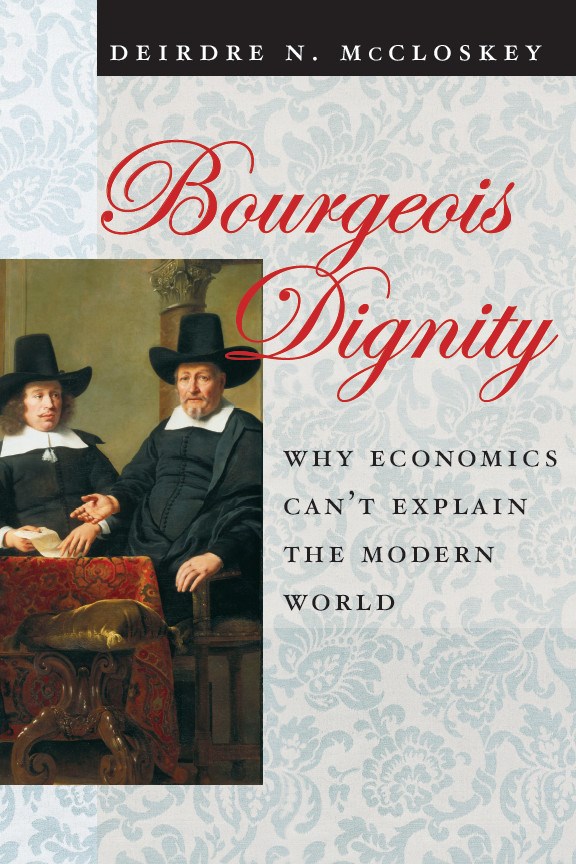маркетинг и инновации - это то, чем мы, американцы, должны заниматься. Каждый житель США, от водителя грузовика до конгрессмена, считает себя занимающимся небольшим бизнесом и мечтает об инновациях.
В других странах ситуация не столь однозначна. В гораздо более сознательной в классовом отношении Великобритании доля людей, относящих себя к "среднему классу", в 2007 г. составляла всего 37%, что, однако, значительно больше, чем в 1907 г. Во Франции в 2004 г. на вопрос "К какому классу Вы относитесь?" 40% ответили "среднему". Около 23% французов ответили "рабочий" - высокий показатель по американским меркам, хотя и резко уступающий тому, что сказали бы французы (и англичане, и даже американцы) в 1904 году. То, что во французском опросе только 4% назвали себя буржуа, свидетельствует о непопулярности слова на букву "Б" в современной европейской политике. Хорошо бы возродить это слово и его ассоциации со свободой. Но и в этом случае обратите внимание на то, что в богатых странах 40 и более процентов людей называют себя представителями среднего класса, если не марксовым "буржуа". Сравните с гораздо меньшими процентами, которые можно представить в мире Андре Жида или Стендаля, не говоря уже о Мольере. Смена риторики стала революцией в отношении к себе и к среднему классу - буржуазной переоценкой. Люди стали терпимее относиться к рынкам и инновациям.
Этот аргумент применим как к рутинным инновациям, так и к великим творческим идеям, как к микроизобретениям Мокира, так и к макроизобретениям, которые открывают новые миры для завоевания. Экономист Алан Кирман обратил мое внимание на то, что многие инновации, по его словам, "порождаются спросом", например, усовершенствование метлы для подметания балласта на железнодорожных линиях, которое разработал и продал железным дорогам всего мира мой австралийский друг, проживающий в Амстердаме. Этой темой занимался экономист Якоб Шмук-лер, который в 1960-х годах стал пионером в изучении индуцированных инноваций. Но такие инновации в большей степени зависят от уважения буржуазии и свободы новаторства, чем макроизобретения. Великие гении, ускоряющие темпы инноваций, такие как Форд или Эдисон, возможно, лучше переносили презрение и помехи, чем скромный гений, совершенствующий подметание балласта.
В своей новой проницательной книге "Просвещенная экономика", с которой я во многом согласен, Джоэл Мокир восхваляет так называемую бэконовскую программу, которая, по его мнению, является той силой, которая позволяет науке развиваться достаточно долго, чтобы иметь экономическое значение. "Бэконовская программа, - пишет он, - была построена на двух незыблемых аксиомах: что расширение полезных знаний позволит решить социальные и экономические проблемы и что распространение существующих знаний среди все большего числа людей приведет к существенному повышению эффективности". Безусловно, идеология, выдвинутая Фрэнсисом Бэконом в 1620 г., просуществовала на удивление долго, несмотря на многочисленные свидетельства того, что она плохо описывает то, чем на самом деле занимаются ученые, и является исключительно плохим советом по организации их работы. Дарвин, например, на первой странице книги "Происхождение видов" в 1859 году утверждал, что он использовал так называемые Бэконовскими методами (т.е. бесцельной индукцией) он пришел к идее естественного отбора. Но, как следует из его автобиографии и личных заметок, он был "бингом" и получил теорию (от экономиста Мальтуса) раньше, чем многие наблюдения. И, как и Ньютон, Дарвин работал в одиночку, даже скрытно, хотя и с массовой перепиской фактов, а не в доме интеллекта а-ля Бэкон. В конце концов, к публикации его вынудила угроза Уоллеса разгромить его аргументы (за четырнадцать лет до этого он написал краткое изложение, которое показал жене с указанием опубликовать его в случае своей смерти). И его теория принесла плоды в виде повышения эффективности не ранее чем через 150 лет, когда она была объединена с работами безвестного монаха из этнических немцев в Чешских землях (и объяснена ими).
Иными словами, те технологические достижения, на которые Мокир так много сделал для того, чтобы обратить внимание экономистов, не зависели от науки, чтобы повториться, пока очень и очень поздно. Наука, хотя и гордилась, и упорно заявляла о своей готовности помочь человечеству, обычно следовала за технологией, объясняя в аккуратных уравнениях или строгих экспериментах результаты, которых уже добились на практике мастера и инженеры: паровая машина, электромотор, анестезия, чистота в больнице, прекращение болезней, передающихся через воду, благодаря правильному дренажу, небоскреб, двигатель внутреннего сгорания, самолет, холодильное оборудование, кондиционеры. "Паровая машина дала науке больше, - говорил лорд Кельвин, - чем наука дала паровой машине". В то же время возникло восхищение полезными знаниями, способными решать социальные и экономические проблемы, распространяться среди все большего числа людей и приводить к существенному повышению эффективности. (Менее приятно, что среди духовенства также возникло отношение, примером которого может служить сам Кельвин, к научным знаниям в узком понимании конца XIX века, которые, конечно же, являются самыми полезными и славными. Иногда это приводило к плачевным последствиям: евгеника, коммунизм, война во Вьетнаме, Великая рецессия 2008 года). Однако восхищение инновациями имело мало общего с милордом Бэконом и больше, как отмечает Мокир, с более широким Просвещением и, как я бы сказал, с буржуазной переоценкой.
Результаты Переоценки в области полезных идей и их распространения проявляются во всем обществе северо-западной Европы и ее ответвлений, а не только в науке. Разговор людей резко импровизировался примерно в 1690-х годах - в кофейнях и газетах для голландской и английской буржуазии, во французских салонах для духовенства и аристократии. Предпосылкой, конечно, послужило активное применение в Европе восточное новшество - подвижный шрифт. Но уверенность в том, что можно писать то, что думаешь, даже если эта мысль, скажем, унитарианская, приходила медленно, со множеством отрубаний рук и избиений печатников. Третий граф Шафт-Эсбери в 1690-1700-х годах неоднократно уезжал в свою любимую Голландию, чтобы вести свободную дискуссию, опасную даже в Англии. Разрушение ортодоксальной религии в Новой Англии примерно в то же время (после Салема) было типичным фрагментом нового века свободной дискуссии. Джунто" Бенджамина Франклина, дискуссионный кружок для подмастерьев в Филадельфии, основанный в 1727 году, предшествовал даже Бирмингемскому лунному обществу (основанному в 1765 году), немыслимому за пару столетий до этого. Маргарет Джейкоб говорит о масонах и их новых свободных дискуссиях. Новая риторическая среда возникла в Нидерландах в 1620-х годах, несмотря на угрозу со стороны кальвинистской ортодоксии (в 1619 г. принц Мауриц и анти-риммонстранты посадили Гроция в тюрьму, а его политического учителя Ольденбарневельта казнили). Во время Английской революции она была распространена на фундаментальные политические вопросы в Путнейских дебатах 1647 г., а в 1690-х гг. в Англии вступила в свои права, способствуя зарождению современной политологии. Из этой несовершенной, но