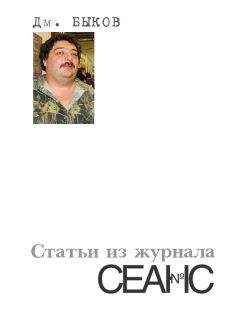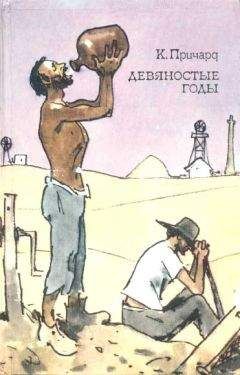как таллинская ратуша. И, как они, примитивен. Он не спонсирует мечты стать принцессой — ни виды рейвера на миллион, ни замужество стриптизерши. Запад — это как в Эстонии: тяжкое медленное восхождение, а не московская фантасмогория, не воображаемая жизнь ангелов, не деньги, спасенные в проводах; это труд и дисциплина — то, чем вечно фальшивая Лоллобриджида отличается от фальшивого в двадцать лет Шуры́ : два типа искусственности, но одна себе зубы вставляет, а у другого они вываливаются. Русская доавгустовская феерия, с виду более европейская, чем эстонское прозябание, недаром закончилась черт-те чем. Мираж рассеивается без остатка. Додумавшись до этого, он совсем приуныл. Он вдруг понял, что недаром жил в лужковском городе, и все его мытарства с деньгами — это московская история, что он часть своего миража, и ничего другого не достоин и ни на что уже не способен. И его потянуло домой. Но не в Москву, а в Питер.
И теперь, гуляя по Таллину мимо петербургского фасада с неожиданной черепицей, он воображал себя в любимом городе, где запад и убожество вовсе не синонимы, где своя феерия и свой мираж, но двести лет европейской культуры. И чувство законного превосходства переполняло его. У Мраморного, где крайнее пусто окно, он сворачивал направо, выходил на Дворцовую с лучшим в мире видом и шел по Неве до Медного всадника, до арки на Галерной, где наши тени навсегда, и оттуда в Новую Голландию, и потом в Коломну, и обратно по Мойке до Строгановского дворца.
Главной в этой прогулке — из Нижнего Таллина в верхний — по прямому равнинному Петербургу была, конечно, Коломна. Не московский едва освоенный и тут же заглохший пустырь с громокипящим по любому случаю мэром — то академик, то герой, то мореплаватель, то плотник — образность, уродливая и скоротечная, и не таллинская мелкая реставрация — здесь починим, тут надставим, — вдохновенная, как бухгалтерская книга, а Коломна — забор некрашеный, да ива и ветхий домик: вот выход. Как же раньше он этого не понял, и как все просто — сдать убогую квартиру-квадрат в Митино хоть за двести долларов и жить на них скромной, старинной осмысленной жизнью без строек, без проводов, без карточек. Так, разговаривая сам с собою и махая руками, он шел по Мойке, радуясь обретенной ясности, но в глубине души понимал, что ничего этого не будет, что он не сумасшедший, и незачем ловить завистливые взгляды прохожих — никто ему не завидует — и мечтать, чтоб злые дети бросали камни вслед ему, — никто не бросит. Внутри Строгановского дворца, как всегда, было тихо; там в самом миражном на свете дворике, со скульптурами по периметру сада, он приходил в себя и видел Томаса и Маргариту.
Когда же наконец вышел срок и он сел в поезд, то сразу уснул: в Строгановском дворике уже не было постылой готики, но валялись пластиковые стулья и сброшенная вывеска «Обмен валюты»; на одной из стен крупно мелом было написано: «Запад не спонсирует мечты жить с Парашей»; по периметру сада, покрыв белеющие сквозь воду статуи, мелко разлилось Балтийское море. «Глядите, лебеди скрылись, — запричитали русские артистки. — Где они, где?» И с привычным чувством превосходства он, как в детстве, повернулся строго на юго-запад, зная, что сейчас их обнаружит, непременно найдет — куда же им деться? — и стал глядеть в плешивое пустое небо, но ничего там не увидел, ничего; и никто ему не помог — эстонские пограничники решили не беспокоить спящего.
Генриетта Яновская
театральный режиссер
*1940
«Конец века. Выдох века. Наш выдох»
...Все эти годы я проработала в одном театре, в МТЮЗе, для меня в каком-то смысле все смешалось в один поток, и какие-то изменения я отмечала для себя уже постфактум.
— Каковы были первые изменения?
— Я ставила спектакль в театре Маяковского, когда впервые прозвучали эти знаменитые речи Горбачёва — про человеческий фактор, про демократические ценности и так далее. Я тогда сказала артистам: «Если хотя бы на 10 % он сам верит в то, что говорит, и если его не снимут в ближайшее время, то очень скоро искусство будет востребовано. Потому что без него невозможно сбить привычность взгляда, преодолеть инерцию, совершать открытия на пограничных зонах».
— Так оно и было?
— Так оно и было. Поначалу. Во второй половине 1980-х. Потом лет на десять мы были предоставлены сами себе. Тоже не худший вариант. Сейчас все ровно наоборот. Сейчас думать, открывать, разворачивать мысль в неожиданную сторону — это не просто не нужно. Это лишнее. Не нужно никому. Правда, не грозит репрессиями, увольнениями. Сопротивляться нечему, никто не угрожает. Просто вакуум.
— Вот эти перемены политических курсов и связанные с ними изменения в общественной атмосфере насколько впрямую влияли на жизнь театра, на ваше собственное самочувствие как режиссера?
— Не так уж впрямую. В вольные 1990-е со мной вдруг приключилась такая история. Я перестала хотеть что-нибудь ставить. Абсолютная пустота внутри. Мне казалось, что я и не смогу ничего. В этот период меня пригласили в Англию вести мастер-класс. Предложили выбрать тему. И я выбрала: «Чувство смерти в комедиях Чехова». Они спросили: именно в комедиях? Именно в комедиях, я настаивала на этом. Они уточняли: в комедиях — чувство смерти? Да, именно так. Почему-то именно так для меня формулировалось тогдашнее ощущение времени.
— А тогда еще и я спрошу: почему именно у Чехова?
— Узнав, что мне до той поры ни разу не приходилось ставить Чехова, они очень удивились. А мне всю жизнь, с юности, казалось, что для того, чтобы ставить Чехова, решиться ставить Чехова, нужно быть уже очень взрослым человеком. И пока я это объясняла англичанам, вдруг поняла, что я ведь уже взрослая. Вот все была студентка, студентка, училась, считала, что еще долго учиться придется. Я ведь человек другого поколения, другой ответственности. Так нас воспитывали, что материал нельзя просто хватать по каким-то там соображениям. Что нужно жизнью заработать на него право. И вот, из пустоты этой страшной, я