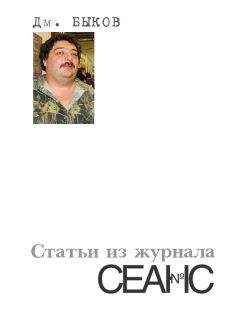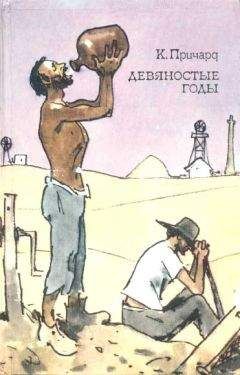я под новый 1995 год вернулся из Берлина. А по телевидению показывают штурм Грозного. И вот тогда... Видите ли, я все-таки читал «Хаджи-Мурата». Человек, который читал эту книжку, понимает, что там победить нельзя, оттуда можно только уйти.
— Тогда-то для вас и закончились 1990-е? Уже в 1994-м?
— Нет, просто они стали другими. Совсем другими. Закончились они, когда Ельцин попрощался с народом, и началось новое тысячелетие. А тогда... Я весь 1994 год прожил в Берлине и видел Москву со стороны, из-за границы, по западным новостным передачам. И не то именно этот год был для страны каким-то особенно неприятным, не то показывали как-то чересчур избирательно... Но я увидел город, где люди рылись в мусорных баках, а улицы были мокрыми и непроходимыми. Так я и запомнил 1990-е — какими они стали.
— А если говорить не о пейзаже десятилетия, не о цельном образе, а о вещах? О бытовой повседневной жизни?
— О, бытовая жизнь тогда была просто захватывающей... На наших глазах реальностью становилось то, что в советское время почиталось за мифы и легенды. Например, покупать продукты на рынке намного дешевле, чем в магазине. Бананы — это еда для бедных. Зажигалка стоит дешевле, чем пачка сигарет. На прилавке может быть больше пяти сортов сыра. В магазине может не быть очереди. Джинсы не предмет роскоши. Зимой можно купить клубнику. И так далее. Потом был еще один аттракцион — стремительная инфляция, когда в один момент все становились нищими, а, с другой стороны, из ничего появлялись настоящие миллионеры. Когда произошла деноминация? Ах да, в 1997-м. А до этого, значит, сон, там непонятно... Я помню, был период, когда все цены на ценниках напоминали исторические даты: что-то стоило 1986 рублей, например. Такая практическая хронология на прилавках. Но это было недолго. Вообще, тогда все было недолго. Мир менялся на глазах, как в пластилиновом мультфильме.
— Но были же и какие-то постоянные приметы? Скажем, бандитская атрибутика... — Мне тоже так сначала казалось. Пока не увидел человека с мобильником в пригородной электричке. Жутко комичный эффект: мобильник есть, а «Мерседеса» и кашемирового пальто нет. Бандитский стиль тоже в какой-то момент мутировал, эти пальто превратились в кожаные куртки и заполонили китайские рынки... Нет-нет, суть именно в том, что не было ничего постоянного. Только к чему-то привык, а оно превращается во что-то совсем другое или и вовсе лопается, как мыльный пузырь. Вот на этом месте вчера был продуктовый магазин, а сегодня уже обмен валюты; вот это кафе вроде приглянулось, но через месяц в его помещении — антикварная лавка; в этой витрине только что стоял русский самовар и висела гирлянда бутафорских бубликов — глядишь, а вместо них экспонаты сантехнического оборудования, изготовленного, судя по ценам, из чистого золота. Еще деньги перестали вообще что-либо означать. Суммы, на которую вчера можно было скатать с семьей в отпуск, сегодня не хватит на бутылку пива.
— А куда вы дели свой ваучер?
— А! Вот это интересный вопрос! Я не помню. По-моему, моя теща вычитала, что надо куда-то его вложить... И давайте мы все... И мы все как один... Я вложил в тещу, а она, вместе со своим, куда-то еще вложила, во что-то страшно беспроигрышное (смеется)... Ваучеры же еще были, действительно! О боже мой!..
— Как вы думаете, почему все это так быстро забывается?
— А все возникало, словно очень яркая вспышка. Вспыхнет, и погаснет, только красные змейки перед глазами остаются. Стремительные были годы, что и говорить!.. Ведь какое тогда было чуть ли не самое главное слово? «Бум». Очень выразительное слово, кстати. Все было — бум. Иномарочный, компьютерный, издательский, медийный... Только бума идей не было.
— В 1990-е годы не было новых идей?
— Художественных не было. Да и философских, пожалуй, тоже. По крайней мере, ничего особо примечательного не возникало. По-моему, все идеи, которые тогда были в ходу, родом еще из 1970-х — может быть, самого плодотворного и самого неизученного десятилетия во второй половине века. Но они были, словно джинн, закупорены в кувшине. А в конце 1980-х пробку вынули.
— Разве нет специфической «культуры 1990-х»?
— Почему, есть. Но это связано не с художественной новизной. В то время в культуре стала выстраиваться, извините за громоздкое слово, институциональность. То есть начали появляться относительно нормальные, хотя бы отдаленно похожие на мировые, институты ее функционирования. Открывались галереи, клубы, издательства... Деятель культуры стал членом общества. Радикально изменился статус художника, поэта, артиста. Он, что называется, десакрализовался. Попросту говоря, уже не был главным. Писатель перестал быть властителем дум и стал просто писать и издаваться.
— А были властители дум в 1990-е?
— По-моему, они были вне культуры. Не университетская кафедра, не литература, не кино, не изобразительное искусство... рок-деятели остались в 1980-х... Мне кажется, это пресса. Идеи формировались там. Журналистика стала главным литературным жанром, модным в лучшем смысле слова. Когда-то в курилках обсуждались последние публикации в «Новом мире», а в те годы — колонки и статьи из свежих газет. Некоторые из критиков на этой почве даже чуть-чуть спятили, потому что всерьез поверили, что они действительно управляют культурой, назначают писателей и так далее. И до сих пор верят.
— И последнее. Могли бы вы закончить фразу: «Для меня 1990-е — это...»?
— Это, боюсь, последний всплеск социальных ожиданий. Ожиданий того, что в моей стране может по-настоящему что-то измениться. Хотя я бесконечно благодарен этим годам. Сколько бы мы теперь ни делали шагов назад — совсем назад уже не получится. Так же, как после 1960-х уже невозможно было вернуться к сталинизму, как бы кто ни пытался. Вообще эти эпохи очень рифмуются — 1960-е и 1990-е. Надежды, страх, стремительность, дураковатость, двусмысленность... Веселое и страшное время — не одновременно, а именно вместе. Как на американских горках. Которые во всем мире называют русскими.
Виктор Топоров
критик, публицист, переводчик
1946–2013
Сон во сне
В 1999 году я опубликовал автобиографический роман «Двойное дно».