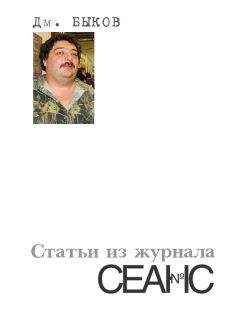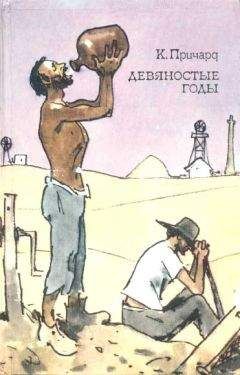Чудского озера. Зимой около деревень бродят волки, иногда таскают собак, режут скот — кроме электричества и антенн над черными избами за сто лет мало что изменилось. Когда в начале 1990-х рухнули колхозы и совхозы, жизнь как-то совсем замерла, затихла. Старые грузовики и трактора сгнили и развалились. Фермерство в зоне рискованного земледелия не прижилось: нескольких новых «кулаков» обложили такими налогами, что они быстро исчезли.
Только бобров, зайцев и волков стало больше, а рыжих псов стали называть «чубайсами»... Люди живут лесом, огородом, ловят рыбу сетками, на лесных дорогах появились телеги с чахлыми лошаденками... Прямо у большака на холме над селом — высокая деревянная церковь конца XVII века, недавно обновленная, покрашенная, сверкает крытыми жестью куполами. Здесь все настоящее — церковь намолена, дух — ветхий, кондовый, батюшка — старый, исконный, служит здесь лет тридцать, ходит босиком по дощатому полу, проповеди читает, как при Никоне, вслушаешься — голова идет кругом.
На воскресной литургии народу человек двадцать. Пожилой местный интеллигент, двое городских, работающих при церкви, десяток старух, несколько женщин помоложе, дети, подростки. Местных мужиков нет совсем, в церкви бывают только на крестинах, свадьбах или поминках.
В лесной деревне верстах в пяти от села живет Николай — бобыль лет пятидесяти с крестообразным шрамом на большом лбу, человек нормальный, но немного «не от мира сего», считай, деревенский юродивый. Живет в избушке без фундамента, в которой головой стукаешься о потолок. Не хватило леса, двух венцов недоложили: «Да зачем мне одному, — машет он рукой, — все равно помирать...» Он всем помогает, почти бесплатно вскапывает огороды, пьет не часто, словом, разительно отличается от остальных. «Да у него ж дырка в голове», — сокрушенно говорит его мать, баба Шура, лет девяноста от роду. С виду — обычный мужик, по-своему красивый, живет на инвалидную пенсию. В меру ленив, мечтателен, любит порассуждать, никогда не охотится, не ходит на рыбалку. В нем есть что-то очень застенчивое, то, что по необходимости приходится скрывать. И душа у него, по Тертуллиану, «по природе — христианка».
Когда-то в их роду были священники, и, возможно, эти забытые корни еще существуют в нем, но при этом он не без гордости заявляет:
— В судьбу я, конечно, верю, но воще-то я — етеист.
Мужик должен охотиться, рыбачить, ходить в баню, пить, блевать, драться, колотить свою бабу или даже из-за внезапной беспричинной ревности пристрелить ее из двустволки, сесть в тюрьму — все это законное, мужское. Но если он отправится в церковь, будет молиться, он тотчас же утратит свою идентичность, потеряет мужескую силу, «обабится»... И состояние «мужского мира» после падения большевизма выглядит даже не дохристианским, а доязыческим — царством первобытных верований, фетишей, тотемов и табу.
Грехопадение произошло, человек изгнан из рая, но до поклонения стихиям — солнцу, дождю, ветру, земле — он еще не поднялся.
Tabula rasa: здесь кажется, что история начинается вновь.
ПАНТЕИЗМ
Начало июля, тишина, жара, безветрие. Вчерашний ливень глубоко промочил землю, огороды прополоты, солнце в зените, аист осторожно бродит на лугу перед домом, кажется, что все в округе спит. Надо работать, писать, усилием воли сосредоточить сознание, но вместо концентрации оно растекается, плывет, душа теряет свои границы и сливается с этой травой, замершими березами, с этим небом, неподвижным душным воздухом. Человек пропадает, растворяется, полный паралич воли, исчезновение желаний, мыслей, чувств: ты и мир — одно. Притом каждый простейший акт, каждое действие полно значительности — принес воды, скосил траву, выкупался в реке — и больше ничего не нужно. Состояние, похожее на счастье, которое, если верить венскому психоаналитику, человеку труднее всего долго переносить.
По тропинке вдоль забора идет Коля с ведром за водой, возвращается... Через час с одним ведром идет к колодцу снова.
— Зачем ты с одним ведром ходишь, — кричу я, — можно же сразу два принести!
Он ставит ведро на землю, вытирает со лба пот.
— Ну принесешь два ведра, а потом что делать? — как будто с легкой обидой на жизнь говорит он. — А так принесешь одно, а потом через час еще сходить можно... Давай покурим, что ли...
Подходит, садится рядом на скамейку, затягивается «Примой».
— Эх, жара, — говорит он, вздыхая.
— Да, жара и безветрие, — отвечаю я.
— Безветрие, и вишь, как пáрит, к вечеру, наверное, снова дождь будет...
— Да, похоже на то... пáрит сильно.
— Хорошо, поливать не надо будет.
— Да, поливать не надо.
Пауза.
— Ну, пойду дальше, — говорит он, — к Федюне зайду...
— Зачем?
— Да дело есть... Посидим, покурим...
ПРАВОСЛАВНАЯ ЭТИКА И ДУХ КАПИТАЛИЗМА
«Лампочка Ильича» зажглась в этих местах лишь в начале 1970-х, а телевизоры появились еще позднее. На рубеже 1990-х все смотрели латиноамериканские сериалы, потом российские. Московские политические страсти (кроме, пожалуй, дефолта) как-то проходили мимо. Впрочем, о колхозах часто вспоминали — теперь работы-то не стало совсем. Октябрьской бойни 1993-го почти не заметили — кто с кем воюет, непонятно: какая-то марсианская жизнь по телеку. Существует ли все это на самом деле, кто знает?..
В середине 1990-х начали привозить видеомагнитофоны. Боевики, триллеры, ужастики Коля совсем не жалует, любимый жанр — мелодрамы, а из режиссеров — Тинто Брасс. «Ох, ну жизнь — сочная, итальянская!» — с легкой завистью говорит он. И у Николая возникла мечта — скопить деньги на «видик» и открыть видеосалон, начать собственное дело.
Всем известно, что в деревне денег нет и кредит взять негде. Но если они появляются, потратить их не на что, а сохранить очень сложно. Когда охают над сельской нищетой, не понимают, что деньги, даже в небольшом количестве, для деревенской жизни чаще зло, чем добро. Немногие «крепкие мужики», обустраивающие свое хозяйство и умеренно пьющие, — в основном люди полугородские. В той или иной степени они прошли через городскую жизнь: для них «золотой телец» не так опасен.
В середине лета в окрестных деревнях начинается «золотая лихорадка» — народ носится