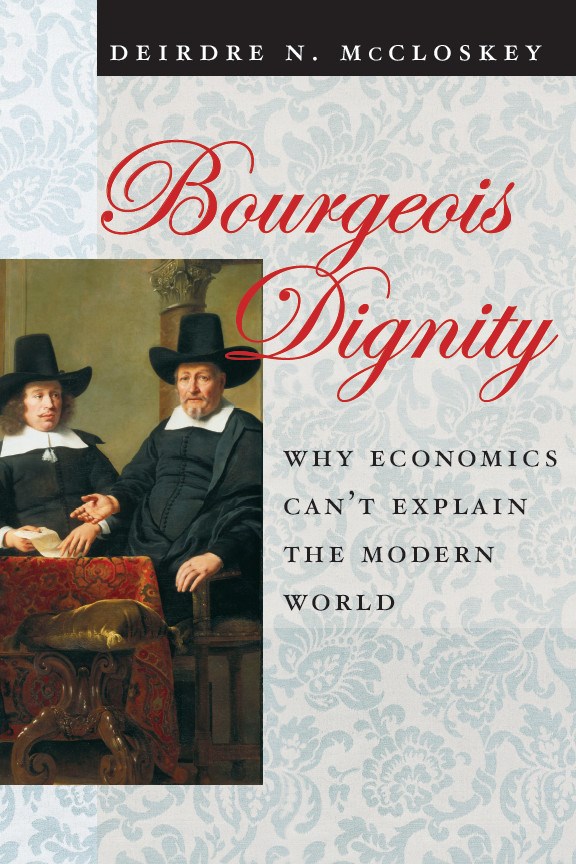расчета". Мосс ошибался, полагая, что современные люди особенно расчетливы, хотя верно, что они более уважительно относятся к расчету, иногда до глупости. Он ошибался, полагая, что существует некая передовая форма потребления, которая является ледяным утилитарным расчетом, поскольку любое потребление полезно, потому что люди считают его полезным, будь то выпечка или Бах, а не в силу некой холодной сущности (об этом мы узнали впоследствии от таких антропологов, как Мэри Дуглас). Но больше всего он ошибался, полагая, что ранние люди были менее экономичны, менее ориентированы на благоразумие - добродетель, которую, если она не сопровождается другими добродетелями, мы называем пороком "жадности", - и что, напротив, современный, якобы утилитарный, потребитель особенно жаден. За столетие до Мосса утилитаризм в аналогичных выражениях атаковали Кольридж и Карлайл, Эмерсон и Диккенс, а за ними Шиллер и немецкие романтики. Они согласились с самовосхвалением самих утилитаристов, утверждавших, что благоразумие, которым они так восхищались, - это новая добродетель, которая должна быть противопоставлена иррациональности готической эпохи. Однако на самом деле новым в XIX веке была теория благоразумия, новое восхищение благоразумием, а не его практика.
Макс Вебер в 1905 г., когда немецко-романтическое представление о том, что средневековое общество было более милым, менее жадным и более эгалитарным, чем эпоха инноваций, только начинает рушиться перед лицом исторических исследований, гремел против такой идеи, что жадность "ни в малейшей степени не тождественна капитализму, а тем более его духу". "От этой наивной идеи капитализма необходимо отказаться раз и навсегда". В своей посмертной "Всеобщей экономической истории" (1923 г.) он писал: "Представление о том, что наш рационалистический и капиталистический век характеризуется более сильным экономическим интересом, чем другие периоды, является ребячеством"2 Пресловутая жажда золота, "импульс к приобретению, стремление к выгоде, к деньгам, к возможно большему количеству денег, сам по себе не имеет ничего общего с инновациями. Этот порыв [жадности] существует и существовал у официантов, врачей, кучеров, художников, проституток, нечестных чиновников, солдат, дворян, крестоносцев, азартных игроков и нищих. Можно сказать, что она была присуща всем видам и состояниям людей во все времена и во всех странах Земли, везде, где есть или была объективная возможность ее существования".
Маркс, характеризуя в 1867 г. капитализм как "исключительно беспокойное стремление к наживе", говорил, цитируя буржуазного экономиста Дж.Р. Мак-Каллоха в "Принципах политической экономии" (издание 1830 г.): "Эта неугасимая страсть к наживе, auri sacra fames ["к золоту - позорный голод"], всегда будет вести за собой капиталистов". Но, ответил Вебер, она ведет и всех остальных. Auri sacra fames - это из "Энеиды" (19 г. до н.э.), книга, строка 57, а не из "Департамента экономики" или "Эпохи рекламы". Люди потакают греху жадности, благоразумия в погоне за едой, деньгами, славой или властью, с тех пор как Ева увидела, что дерево желанно, и взяла от него плод. Советский коммунизм в значительной степени поощрял грех жадности, о чем свидетельствуют люди, пережившие его. Средневековые крестьяне накапливали не менее "жадно", чем американские корпоративные руководители, хотя и в меньших масштабах. Хьюм в 1742 г. заявлял: "Носильщик не менее жаден до денег, которые он тратит на бекон и бренди, чем придворный, покупающий шампанское и ортоланов [маленькие певчие птички, считающиеся деликатесом]. Богатство ценно во все времена и для всех людей".
Многим читателям великолепных исторических глав 25-31 "Капитала" будет трудно в это поверить. Красноречие Маркса убеждает их в том, что человек, писавший в 1867 г., в самом начале профессионализации истории, тем не менее, верно уловил ее суть. Еще один из его великих риффов, глава 15 "Машины и современная промышленность" (150 страниц в издании английского перевода Modern Library), трубит о том, что он является свидетелем эпохи инноваций. История, которую, как считал Маркс, он воспринимал, соответствовала его ошибочной логике, согласно которой капитализм - опираясь на антикоммерческую тему, столь же древнюю, как и коммерция, - есть то же самое, что и жадность. Жадность - это двигатель, который приводит в действие его последовательность. Она гласит: Деньги, начинающиеся в результате первоначального жадного воровства или бережливости как сумма М, вкладываются в Капитал (товары, используемые для производства), который по своей сути является эксплуататорским (и тем самым усиливает первоначальное воровство или бережливость), порождая прибавочную стоимость, жадно, хотя и структурно, присваиваемую капиталистом для получения новой, большей суммы денег, МР. "Мы видели, как деньги превращаются в капитал; как через капитал [создается] прибавочная стоимость, а из прибавочной стоимости - еще больший капитал". И далее снова, и снова, и снова, в неточном английском переводе немецкого языка Маркса - "бесконечно".
Классическая и марксистская идея о том, что капитал порождает капитал, "бесконечно", трудноизлечима. Так, Иммануил Валлерстайн в 1983 г. говорил о "бесконечном накоплении капитала, уровне расточительства, который может начать граничить с неустранимым". Недавно эта идея немного ожила среди экономистов в виде новой теории роста, которая придает математическую форму. И марксистские, и буржуазные экономисты упускают из виду вступление на запах провианта, который переносит прибавочную стоимость от капиталиста, которому она достается в первую очередь, к рабочему классу - потребителю подешевевшего хлеба и роз. Этого нет в их моделях, поэтому они полагают, что этого нет в мире.
Кстати, слово "бесконечный"/"нескончаемый", прозвучавшее в темные века в сельской и монашеской экономической теории и до сих пор присутствующее во всех наших представлениях о "капитализме", возникло за двадцать два века до Маркса в греческом аристократическом презрении к коммерции. Людей бизнеса (объявленных аристократом Платоном и поклоняющимся аристократам Аристотелем) мо-тивирует апейрос (безграничная) жадность. Так считает Аристотель в "Политике". Неограниченность" у Аристотеля заключается в том, чтобы покупать дешево и продавать дорого, что, как предполагается, не дает убывающей отдачи, как, например, в сельском хозяйстве. В XIII веке св. Фома Аквинский, ссылаясь на Аристотеля с чуть меньшим, чем обычно, энтузиазмом по отношению к философу, приводит обычную жалобу на розничную торговлю, которая зависит от "жадности к наживе, не знающей предела и стремящейся к безденежью". Как отмечает политолог Джон Дан-форд, "убеждение, что в [ar-bitrage] есть что-то предосудительное, сохраняется уже более двух тысяч лет. ... . . Непреходящим наследием... стало... мнение о том, что... коммерция или приобретение богатства не просто низки, они противоестественны, извращают природу и недостойны порядочного человека". При всей гениальности Маркса - тот, кто не считает его величайшим социологом XIX века, читал недостаточно Маркса, ослеплен идеологией или ужасающим влиянием марксистских трудов на политику XX века, - он неправильно понимал историю. Какова бы ни была ценность его теорий как способа постановки исторических вопросов, на Маркса нельзя положиться ни