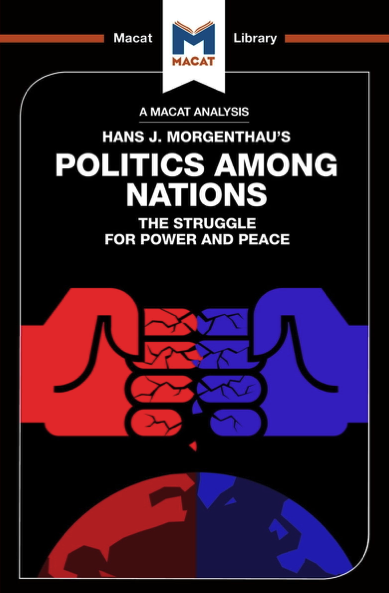состав правительства и финансовая политика. Тогда, в силу международного соглашения, устанавливающего правило большинства, решающая политическая власть перейдет от национального правительства к международному агентству. Уже не национальное правительство, а международное агентство будет обладать верховной властью и, следовательно, осуществлять верховную правотворческую и правоприменительную власть на национальной территории.
Из сказанного уже очевидно, что нигде на современной международной арене отклонения от правила единогласия не влияют на суверенитет отдельного государства. Международное судопроизводство окружено тщательно продуманными гарантиями, которые не позволяют решать вопросы политической важности большинством голосов в международном суде. Большинство голосов в международных административных организациях способно решать только технические вопросы, вопросы, которые не имеют значения для распределения власти между национальными правительствами или между национальными правительствами и международными агентствами. Что касается большинства голосов в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций: "Оценивая влияние на суверенитет членов Ассамблеи отхода от традиционных принципов единогласия, необходимо помнить, что Ассамблея не имеет полномочий принимать решения, касающиеся Организации Объединенных Наций".
Если суверенитет означает верховную власть, то логично, что в одном и том же времени и пространстве не могут быть суверенными два или более субъектов - лиц, групп лиц или учреждений. Тот, кто является верховным, по логической необходимости превосходит всех остальных; у него не может быть ни вышестоящих, ни равных ему. Если президент Соединенных Штатов является главнокомандующим вооруженными силами, то логически абсурдно утверждать, что кто-то другой, скажем, министр обороны, разделяет с ним верховную власть над вооруженными силами. Конституция могла бы разделить эту верховную власть между двумя должностными лицами по функциональному принципу - так же, как, согласно средневековой доктрине, верховная власть была разделена между императором и папой - так что, предположим, президент будет иметь верховную власть над организацией и снабжением вооруженных сил, а министр обороны - над их военными операциями. Если бы это было фактическое разделение власти и фактическое распределение функций, никто не был бы главнокомандующим, потому что никто не имел бы верховной власти над вооруженными силами. Должность главнокомандующего не могла бы логически существовать. Либо президент командует вооруженными силами с высшей властью, либо кто-то другой, либо никто. Эти альтернативы логически мыслимы, хотя не все из них, как мы увидим, политически осуществимы. Но то, что и президент, и кто-то другой одновременно командуют вооруженными силами с высшей властью, является как логически несостоятельным, так и недостижимым для политических достижений,
Рассмотрение реальных политических функций, выполняемых суверенной властью в государстве, сделает очевидным, что суверенитет не может быть разделен^ в политической действительности. Суверенитет означает верховную правотворческую и правоприменительную власть. Иными словами, суверенной является та власть в государстве, которая в случае разногласий между различными правотворческими факторами несет ответственность за принятие окончательного обязательного решения и которая в случае кризиса правопорядка, такого как революция или гражданская война, несет конечную ответственность за исполнение законов страны. Эта ответственность должна лежать где-то - или нигде. Но она не может быть одновременно здесь и там. Как сказал господин судья Сазерленд в деле "Соединенные Штаты против "Curtiss Wright Export Corporation": "Нищенское общество не может существовать без суверенной воли".
Простая истина, что разделенный суверенитет логически абсурден и политически неосуществим, никогда не вызывала сомнений практически у всех членов Конституционного конвента 1787 г. Те, кто считал, что суверенитет должен находиться в штатах, а также те, кто хотел, чтобы он находился в центральном правительстве, были убеждены, что он должен находиться либо здесь, либо там, но не может быть разделен между обоими. "Я придерживаюсь фундаментальной точки зрения, - писал Мэдисон Рэндольфу 8 апреля 1787 года, - что индивидуальная независимость штатов совершенно непримирима с идеей совокупного суверенитета". "Нам говорили, - заявил Джеймс Уилсон на заседании Конвента, - что если каждый штат суверенен, то все равны". Таким образом, каждый человек фактически является сувереном над самим собой, и поэтому все люди по природе равны. Может ли он сохранить свое равенство, когда становится членом гражданского правительства? Не может. Так же, как и суверенное государство, когда оно становится членом федерального правительства. Если Нью-Джерси не хочет расстаться со своим суверенитетом, то напрасно говорить о правительстве". Говоря словами Гамильтона: "Два суверенитета не могут сосуществовать в священных пределах".
Однако именно Мэдисон указал на качественный элемент политической власти, в отличие от "больше или меньше" договорных обязательств, как на отличительную характеристику суверенитета правительства и, как такового, несовместимого с суверенитетом подчиненных ему лиц. Мэдисон заявил 28 июня 1787 года, выступая на заседании Конвента:
Эта ошибочность рассуждений, вытекающих из равенства суверенных государств при заключении договоров, заключается в том, что они путают простые договоры, в которых были прописаны определенные обязанности, которыми стороны должны были быть связаны, и определенные правила, которыми их подданные должны были руководствоваться в своих взаимоотношениях, с договором, в котором власть была учреждена как верховная по отношению к сторонам и устанавливающая законы для управления ими.
Таким образом, популярные конституционные доктрины, справедливо опасаясь неограниченной власти абсолютной монархии и рисков личного правления, путали подчинение суверенной власти правовому контролю и политическим ограничениям с ее ликвидацией. В своем стремлении сделать демократию "правительством законов, а не людей" они забыли, что в любом государстве, демократическом или ином, должен быть человек или группа людей, в конечном итоге ответственных за осуществление политической власти. Поскольку в демократическом государстве эта ответственность в обычное время дремлет, едва заметная сквозь сеть конституционных механизмов и правовых норм, широко распространено мнение, что ее не существует, и что верховная правотворческая и правоприменительная власть, за которую раньше отвечал один человек, монарх, теперь распределена между различными координирующими органами правительства, и что, следовательно, ни один из них не является верховным. Или же предполагается, что эта власть принадлежит всему народу, который, разумеется, как таковой не может действовать. Однако во время кризиса и войны эта высшая ответственность заявляет о себе, как это было при президентстве Линкольна, Вильсона и двух Рузвельтов, и оставляет конституционным теориям нелегкую задачу аргументировать ее после события.
В федеративных государствах, монархических или демократических, идеологическое удовлетворение должно быть дано отдельным государствам, которые, будучи когда-то суверенными, больше таковыми не являются, но не хотят этого признавать. Поскольку конституционно и политически невозможно отрицать, что федеральное правительство суверенно, и поскольку психологически невозможно признать, что отдельные штаты больше не суверенны, конституционная теория просто делит суверенитет между федеральным правительством и штатами, пытаясь таким образом примирить политические реалии с политическими предпочтениями. Так получилось, что Гамильтон и Мэдисон, решительно провозгласившие неделимость суверенитета на Конвенте 1787 года, столь же решительно настаивали на делимости суверенитета, когда год спустя в "Федералисте" они пытались убедить штаты