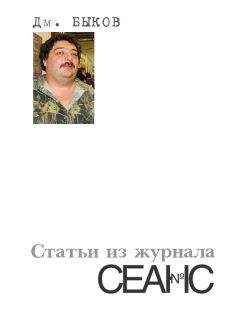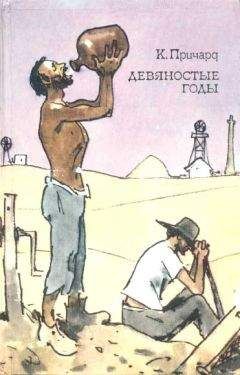какой-то, наверно, бешеный. Федя решил, что пойдет меня сопровождать, у Наташи вид был испуганный. Тогда мы вызвали няню Валентину Павловну, которая согласилась прийти пораньше, и я покидала что-то в сумку, дождалась няню, наказала ей дверь не открывать и на звонки не отвечать, а сама в сопровождении Феди выбежала вон из дома. Долго мы сидели в какой-то пельменной на Преображенке, потом зашли к знакомым на соседнюю улицу, я позвонила Боре, и он спустя два часа, как шпион, подъехал на такси к месту встречи, подхватил меня и Федю, и, с трудом пройдя таможенный контроль (выпотрошили всю сумку, у меня с пальцев сняли три серебряных колечка, не внесенных в декларацию, и унесли их на экспертизу, а потом вернули, высокомерно сказав, что это не серебро), я очутилась по ту сторону границы в компании члена делегации, театрального критика Толи, и поздоровалась с ним так:
— Я только что сбежала от следователя! Представляете? Толя инстинктивно отклонился от меня.
Должна сказать, что это был год, когда вся театральная Москва шаталась по заграницам. Тем летом меня пригласили на два фестиваля — в Гренобль и на Сицилию, в Таормину. В Гренобле предстояло исполнение «Изолированного бокса», а в Таормине — «Трех девушек в голубом». Кроме того, осенью в Париже у меня выходила книга «Бессмертная любовь» и должны были играться в двух театрах спектакли на французском языке: «Чинзано» и «Брачная ночь». Русские были на гребне моды. В Германии у меня готовилась к печати книга «Время ночь». Туда я тоже должна была ехать.
А куда девать детей? Это же июль, макушка лета. Боря работает. Я отказалась.
Тогда милая женщина, руководительница Гренобльского фестиваля, графиня Николь сказала:
— А если мы пригласим и детей, вы приедете?
Это было бы чудо! Как в старые времена, как мои образованные предки делывали, семья садится в поезд и едет в Париж, а спустя месяц к ней присоединяется отец семейства, и все вместе едут в Берлин.
Весь июнь, сидя в Москве, мы ждали нашего Колодкина в гости и держали телефон отключенным. Только в начале июля мне позвонила какая-то очень грубая женщина.
— Вы Петру... шевская, что ли? Людмила Стефановна? Вы чо вообще как-то странно ведете! Я тут сижу, мне звонят по межгороду! Вы как, придете или мне обеспечить вам привод? Я ведь могу прислать. И оставлю вас здесь как мера пресечения, — ядовито сказала она. — Как кто, я прокурор Сокольнического района. Ваше дело у нас. Почему-то. А это не наше дело, а это ихнее дело, с области. Наваливают, понимаешь, все на нас. Будем отправлять вас в Ярославль.
— А у меня у дочери температура 39°, — возразила я.
— Принесите справку от врача. Когда выздоровеет, приведем вас, запомните.
Мы срочно вызвали Наташке врача. Грипп уже шел на убыль, Наташа болела пятые сутки, температура была небольшая, но наша милая врач Людмила Николаевна дала бюллетень. О детские болезни! О теперь уже не оплачиваемые бюллетени! Раньше-то на них жили. И многие хворали как по заказу, ежемесячно. В ходу были гриппы и длительные воспаления легких с переходом в астму. Как сказал незабвенный шутник Михаил Светлов: «Если бы писатели не болели, они бы умерли с голоду». Или бы их арестовывали.
До отъезда оставалось несколько дней. Мы даже свет старались не включать вечером.
Боря проводил нас на поезд «Москва—Турин», детский билет Москва—Турин стоил 180 рублей тогда...
Действительно, прокуратура работала как-то вяло. В старые времена бы прислали ночью воронок, как его присылали регулярно моим родным. Но, во-первых, это было не их дело, а ярославское. Во-вторых, летом все пахали у себя на садовых участках, обеспечивая корма на зиму, в том числе и следователи, наверно. Народ пораспустился. Павловская денежная реформа окончательно повернула людей лицом к деревне.
(На это, кстати, рассчитывали и те умные головы, которые спланировали путч 1991 года именно на август, период интенсивной закатки банок.)
Итак, на дворе стоял июль. Я взяла с собой в поезд еду. Гречневую кашу, масло постное, хлеб черный и белый. Сгущенку. Сыру триста граммов... Варенья. Вареные яйца. Мыло для стирки. Ехать предстояло долго. На ресторан рассчитывать не приходилось. В те годы 87 % зарубежного авторского гонорара забирал себе ВААП.
Вечером меткими камнями какие-то боевые жители Украины выбили в нашем вагоне два коридорных окна. Ночью проехали Карпаты, дети смотрели в темное окно с восторгом, даже погасили свет. Но уже на Будапешт глядели с вокзальной площади утомленно... На австрийских Альпах они окончательно уморились и спали весь день. Из соседнего купе, где ехал священнослужитель, нас залило мыльной водой на вершок от пола, так как батюшка ошибочно подумал, что раковина в его купе работает. Нас со всем скарбом перевели на сухое место. Вторые сутки мы ели гречку со сгущенкой и крутые яйца. Мои восклицания, что мы едем по Е-В-Р-О-П-Е, детей не вдохновляли: они вяло глядели в окно. Наша железная комнатка на троих все больше напоминала отсек в вагончике-засыпушке на стройке где-нибудь в Булаевском районе Северо-Казахстанской области, только без выхода на простор и без свежего степного воздуха. На границе с Италией нас высадили из советского вагона (такой транспорт без стекол тут не ходит, оказывается, со времен Муссолини).
Дальше пришлось ехать сидя, как в общем вагоне, сутки, еще с четырьмя пересадками.
Турин был в полседьмого утра. Купили местный хрустящий батон, триста граммов роскошного дырявого сыра и литр йогурта. Федя уснул на лавке в парке, рюкзак под головой, неподалеку от реки По, а мы с дочкой стояли над рекой на мосту и видели огромных диких рыб, которых было много, как мальков в пруду. Они тяжело резвились.
Затем опять пересадка полтора часа где-то на раскаленной альпийской станции при температуре воздуха, как в бане на полке. Я наблюдала за одной роскошной блондинкой в шелковом васильковом платье: она все время, беспрерывно, улыбалась вдали, метров за сорок. Когда мы сели в вагон, она появилась в дверях, опять-таки улыбаясь во весь рот. Она села невдалеке лицом ко мне. Ей оказалось лет 75. Мы, близорукие, видим всегда только все самое красивое, сверкающие зубы и волосы. Дама, может