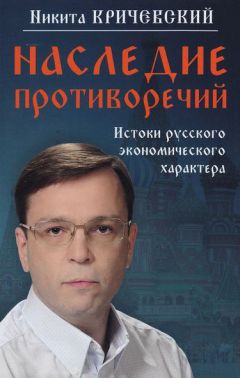“Из Днепровского бассейна к северу и востоку за Волгу и Оку[10], – продолжал Кулишер, – подвигалось население и здесь, в окско-волжском междуречье, поглотив туземцев-финнов, оно образовало плотную массу и завязало народнохозяйственный узел. Посреди непроходимых лесов и болот поселенцы отыскивали сухие места, открытые пригорки, оазисы плодородной земли, здесь они ставили починки, выжигали леса, выкорчевывали пни, поднимали целину”4. Очевидно, что осуществлять хозяйственные перемещения было удобнее группами, связанными не только общими целями, но и родственными узами.
Историк Сергей Соловьев также указывал на подвижный, кочевой характер русской жизни как на отличительную черту древнерусской нации, правда, причины кочевания были далеки от склонности к бродяжничеству: “…движимого так мало, что легко вынести с собою, построить новый дом ничего не стоит по дешевизне материала, – отсюда с такою легкостью старинный русский человек покидал свой дом, свой родной город или село; уходил от Татарина, от Литвы, уходил от тяжкой подати, от дурного воеводы или подьячего…”5. От татаро-монгольского нашествия, от литовских захватчиков, от непомерных налогов, от самодура-начальника шел русский человек вглубь Руси, “проваливаясь” в территориальную пустоту, слыша лишь шум девственного леса или степного ветра.
Были ли русские колонистами в привычном понимании колониализма как системы порабощения менее развитых государств и народностей? Нет. “Россия никогда не была “колониальной державой” в общепринятом смысле и тем качественно отличалась от западноевропейских империй. У нее никогда не было метрополии как таковой: исторический центр был, а метрополии не было. Российская территориальная экспансия (позднее. – Н.К.) носила главным образом стратегический характер, диктовалась потребностями военной и государственной безопасности”6.
Здесь же процитируем современного ученого Александра Неклессу, высказавшегося о России как о стране экстремального пути, так: “Сотни лет мы шли навстречу вьюгам с юга вдаль, на северо-восток” – в строчках Максимилиана Волошина зафиксированы два существенных тезиса. Во-первых, Россия опознана как страна пути, а во-вторых, отмечена экстремальность ее маршрута. Русь, затем Россия была соорганизована посредством пути, путепроводов речных и сухопутных”7.
Очевидно, что ветер странствий, перемен, через терпеливость, выносливость, неприхотливость, недоверчивость, подозрительность, готовность к отражению природной или человеческой агрессии и другие качества, свойственные путешественнику поневоле, внесли свой отпечаток в русский экономический характер. Также, впрочем, как и выработанная за долгие годы стратегия преобладания краткосрочных собственных интересов, причем часто – хищнических (“После нас – хоть потоп”). Вот, к примеру, одно из впечатлений афроамериканского рабочего из США Роберта Робинсона, оказавшегося в России в начале 1930-х: “Для русского человека выживание важнее благопристойности”8.
Но вернемся к общине. Вот что писал об общинно-родовой природе землепользования историк Борис Чичерин: “Само разделение русских славян на племена указывает на господство естественной, кровной связи между людьми. Где народное единство основывается на союзе племенном, там все гражданские отношения вытекают из отношений естественных, патриархальных. С племенем неразлучен и род; это меньшая его единица. А где есть род, там есть и родовая собственность… наша сельская община имела свою историю и развивалась по тем же началам, по каким развивался и весь общественный и государственный быт России. Из родовой она сделалась владельческой, а из владельческой государственной”9. Ниже мы будем придерживаться “чичеринских” этапов трансформации крестьянской общины.
Зарубежные исследователи при изучении происхождения русской общины также придерживались по большей части “родовой” точки зрения. К примеру, прусский историк и экономист XIX в. барон Август фон Гакстгаузен, совершивший в 1843 г. при финансовой и организационной поддержке императора Николая I путешествие по российским провинциям, впоследствии писал, что “слово община, Gemeinde, означает у народов западных собрание лиц, которых сблизил случай, и которых отношения были установлены столько же правительственной и законодательной деятельностью, идущей сверху, сколько нравами и обычаями. Но как отлична от нее община славянская, первоначально бывшая только расширением патриархальной семьи, и представляющая доныне семейство фиктивное, владеющее землей сообща, и в которой глава имеет как бы отеческую власть над другими!”10.
Как бы отеческая, патриархальная власть! Трудовые, семейные династии вместе с наставничеством, когда профессиональное мастерство и жизненный опыт передавались из поколения в поколение, культивировались не только в царской России, но и в Советском Союзе. Только основы такой субидеологии появились не в ходе “мозговых штурмов” в кремлевских партийных кабинетах, но произрастали из самой соли русского общества. Ныне под воздействием тупикового либерального индивидуализма, насколько упорно, настолько и безуспешно насаждаемого в России, те традиции кажутся утерянными. Но генетическая память – вещь непредсказуемая, предполагающая реинкарнацию семейного и профессионального патриархата в любой самый неожиданный исторический момент времени. Социальные традиции в одночасье не отмирают. В советский период государство интуитивно нащупало не связанный с принадлежностью к власти способ нематериального поощрения, нравственного возвышения отдельных граждан. Прием, так же как почитание ценности социального капитала[11] и родственных уз, в значительной мере “заржавевший”, но все же мирно ожидающий воскрешения в арсенале мотивационных методов стимулирования экономического роста.
Оглядываясь назад, можно констатировать, что отчасти лубочное наставничество тех времен разбивалось о советский же (а ныне и российский) непотизм, или покровительство в форме предоставления родственникам, друзьям, близким знакомым самых разных преференций независимо от их профессиональных качеств и общественной пользы – от продвижения по карьерной лестнице и занятия “хлебных” должностей до получения выгодных государственных контрактов и всесторонней поддержки и защиты на самом высоком уровне. Советское наставничество было предназначено для “массового” употребления, а для представителей высшего света действовали совсем другие, неполитические нормы. Диктатура пролетариата во все годы существования советской власти также была социальной ложью – в повседневной жизни наши родители имели дело с диктатурой номенклатуры. Уверен: многие при воскрешении из памяти подзабытого термина “номенклатура”, в советские времена означавшего когорту партийных, государственных и хозяйственных бонз, презрительно сморщатся.
Вот как описывал свои впечатления о России 1920-х немецкий философ и теоретик культуры Вальтер Беньямин: “Россия сегодня – не только классовое, но и кастовое государство. Кастовое государство – это значит, что социальная значимость гражданина определяется не представительной внешней стороной его существования – скажем, одеждой или жилищем, – а лишь исключительно его отношением к власти. Это имеет решающее значение и для всех, кто с ней непосредственно связан. И для них возможность работы открывается тогда, когда они не становятся в демонстративную оппозицию к режиму”11.
Корни же современного российского непотизма – в той самой родовой, владельческой общине, когда наверху волею отваги, доблести или хитрости с подхалимажем часто оказывались случайные люди, проходимцы, карьеристы, общественный жизненный цикл которых ограничивался периодом нахождения у власти “патрона”, причем неважно, как этого “патрона” величали – удельный князь, государь или руководитель министерства. Нужно ли говорить, что с тех древних времен и по сию пору в неписаных законах привилегированной социальной страты мало что изменилось?
Община, основанная на патриархальных, семейных, родовых началах, вряд ли могла долго существовать статично, без каких-либо преобразований, в непрерывно меняющемся внешнем окружении. В немалой степени этому способствовало неизбежное соприкосновение с нравами, обычаями, принципами общественного устройства других народностей. В Древней Руси ключевыми акторами таких изменений были варяги (выходцы из Скандинавии и берегов Балтики), у которых внутренне устройство дружин было в корне отличным от уклада российской родовой общины (черты татаро-монгольского этоса русские переняли несколько позже – в период раннего русского Средневековья). Дружины объединяли в себе не только и не столько представителей одной семьи или рода, сколько людей, изначально чуждых друг другу, но соединившихся в единый общественный организм под воздействием общих целей, где старшинство определялось не по главенствующему положению в роде, но силой и воинской доблестью. Соответственно, и на Руси, с одной стороны, взяла старт трансформация полномочий главы локального социума от старшего в роду к предводителю воинского формирования (князю), а с другой стороны, началось сословное расслоение, когда князь и приближенные к нему лица постепенно прибирали к рукам все больше правомочий.