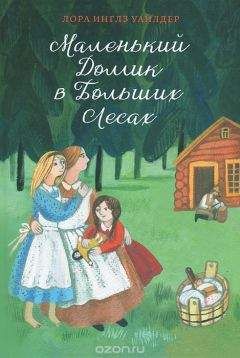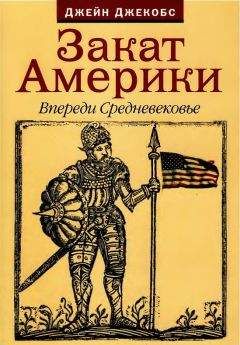При определённых условиях оно может происходить на основе всеобщего и по существу обезличенного согласия. В частности, в закрытом обществе, или в обществе, испытывающем технологические затруднения, или в неразвивающемся обществе может быть так, что тяжкая необходимость, или обычай, или традиция навязывает всем и каждому дисциплинированную избирательность в отношении целей и материалов, дисциплину, обусловленную согласием по поводу требований, которые эти материалы накладывают, и дисциплинированный контроль над сотворёнными таким образом формами. Подобные общества могут создавать деревни и, может быть, даже города некоего особого рода, которые в своей физической цельности кажутся нам произведениями искусства.
Но это не наш случай. Нам может быть интересно рассматривать и изучать такие общества; мы можем вглядываться в их гармоничные творения с восхищением или ностальгией и печально задумываться о том, почему у нас не может быть как у них.
У нас потому не может быть как у них, что в таких обществах ограничения возможностей и запреты, касающиеся личности, выходят далеко за рамки материалов и концепций, используемых при создании произведений искусства из общей массы повседневной жизни. Эти ограничения и запреты распространяются на все сферы возможностей (в том числе на интеллектуальные возможности) и на отношения между людьми как таковые. Эти ограничения и запреты мы восприняли бы как ненужное и невыносимое выхолащивание жизни, как её закостенение. При всем нашем конформизме мы слишком предприимчивы, пытливы, эгоистичны и склонны к конкуренции, чтобы образовать гармоничное общество художников на основе всеобщего согласия; более того мы высоко ценим именно те черты, которые мешают нам образовать такое общество. Воплощать традицию, выражать (и замораживать) гармоническое согласие — нет, мы иначе представляем себе конструктивное использование больших городов и не в этом видим их ценность.
Утописты XIX века, отвергая урбанизированное общество и будучи наследниками романтиков XVIII столетия с их представлениями о благородстве и простоте «естественного» человека, были увлечены идеей простой среды, которую составляют произведения искусства, созданные на основе гармонического согласия. С возвращением к этому «естественному» состоянию была связана одна из надежд, входивших в нашу традицию утопического реформирования.
Эта тщетная (и глубоко реакционная) надежда окрашивала собой утопизм градостроительного движения в духе Города-сада и, по крайней мере идеологически, несколько умеряла его доминирующую тему гармонии и порядка, навязываемых и замораживаемых авторитарным градостроительством.
Надежда на возникновение в конечном итоге простой среды, сформированной искусством на основе согласия (или скорее призрачная тень этой былой надежды), продолжала витать внутри градостроительных теорий в духе Города-сада, если они сохраняли себя в чистоте от идей Лучезарного города и Города красоты. В частности, только этой традицией можно объяснить тот факт, что не далее как в 1930-е годы Льюис Мамфорд, говоря в книге «Культура больших городов» о проектируемых сообществах, которые он предлагал создавать для нас, придал важное значение таким занятиям, как плетение корзин, гончарное и кузнечное дело. Уже в 1950-е годы Кларенс Стайн, ведущий американский градостроитель из числа сторонников Города-сада, выступая по случаю вручения ему Американским институтом архитекторов золотой медали за вклад в развитие архитектуры, вслух размышлял о поисках подходящих объектов, которые могли бы создаваться на основе гармонического согласия в проектируемых им идеальных сообществах. Он предложил разрешить горожанам строить детские сады (разумеется, своими руками). Суть выступления Стайна, однако, состояла в том, что, помимо разрешённого детского сада, вся физическая среда, в которой живёт сообщество, и все необходимое для его материального существования должны находиться под полным, абсолютным и неоспоримым контролем архитекторов проекта.
Это, конечно, ничем не отличается от постулатов Лучезарного города и Города красоты. Эти культы всегда были в первую очередь культами архитектурного дизайна, а не социальных реформ.
Косвенно через утопистскую традицию и непосредственно через более реалистичную доктрину искусства, навязываемого горожанам, современное градостроительство с самого начала было отягощено ложной задачей превращения больших городов в дисциплинированные произведения искусства.
Подобно тому, как проектировщики жилья становятся в тупик, когда пытаются мысленно выйти за рамки жилых массивов, сортирующих людей по доходам, и как проектировщики дорог становятся в тупик, пытаясь понять, что можно было бы сделать помимо предоставления все больших площадей автомобилям, так и архитекторы, занимающиеся городским дизайном, зачастую становятся в тупик, когда пытаются думать о сотворении визуального порядка в городах без стремления заменить порядком, присущим искусству, весьма отличный от него порядок живой жизни. Они не в состоянии найти иной путь, не могут разработать альтернативную тактику, ибо у них нет стратегии дизайна, способного помочь крупным городам.
Вместо попыток поставить искусство на место жизни городским дизайнерам следовало бы обратиться к стратегии, облагораживающей и искусство, и жизнь, — к стратегии высвечивания и прояснения жизни, к стратегии, помогающей нам понять присущие жизни смыслы и её порядок. В данном случае — к стратегии высвечивания и прояснения порядка, свойственного большому городу.
Нам постоянно втолковывают глупую ложь о порядке в больших городах — фактически с нами говорят свысока, как с дурачками, заверяя нас, что порядок — в повторении. Легче всего на свете взять на вооружение несколько форм, придать им регламентированную, повторяющуюся регулярность и объявить, что это и есть порядок. Однако в нашем мире простая регламентированная регулярность очень редко бывает свойственна значимым системам, обладающим функциональным порядком.
Чтобы увидеть в сложной системе функциональный порядок, который ей присущ, необходимо понимание. Вот дерево, с которого осенью падают листья, вот начинка авиационного двигателя, вот внутренности подвергнутого анатомированию кролика, вот отдел городских новостей в редакции газеты. На что из этого мы бы ни посмотрели, мы видим хаос, если смотрим без понимания. Но, как только мы осмысливаем эти системы как упорядоченные, они сразу начинают выглядеть по-иному.
Поскольку мы используем города и, следовательно, имеем опыт взаимодействия с ними, мы в большинстве своём уже располагаем хорошей основой для того, чтобы понять и оценить их порядок. Некоторые из наших проблем, связанных с этим пониманием, и большая часть неприятных хаотических эффектов обусловлены недостаточностью визуальных подкреплений, подчёркивающих функциональный порядок, и, что ещё хуже, совершенно необязательными визуальными противоречиями.
Бесполезно, однако, искать некий решающий, ключевой элемент — нечто такое, что, будучи прояснённым, прояснит все. В большом городе одного такого элемента просто не существует. Смесь как таковая — вот что играет в городе ключевую роль, а присущая ей взаимоподдержка и есть городской порядок.
Когда городские дизайнеры и градостроители пытаются найти конструктивный приём, чтобы ясно и доходчиво показать «скелет» городской структуры (фавориты в этом плане сегодня — скоростные магистрали и променады), они идут по принципиально неверному пути. Строение большого города не похоже на строение млекопитающего или каркасного здания — и даже на строение пчелиных сотов или коралла. Смесь способов использования составляет саму структуру города, и мы ближе всего подходим к его структурным секретам, когда занимаемся условиями генерации разнообразия.
Будучи независимой системой, обладающей структурой, большой город лучше всего поддаётся пониманию непосредственно, в своих собственных терминах, а отнюдь не в терминах каких-либо других организмов или объектов. Однако, если уж пользоваться таким ненадёжным подспорьем, как аналогия, то, возможно, самое лучшее — это представить себе большое поле в темноте. В этом поле горит много костров. Костры разные: одни огромные, другие маленькие; одни отстоят далеко друг от друга, другие теснятся на небольшом пятачке; одни только разгораются, другие медленно гаснут. Каждый костёр, большой или маленький, излучает свет в окружающий мрак и тем самым выхватывает из него некое пространство. Но само это пространство и его зримые очертания существуют лишь в той мере, в какой их творит свет костра.
Мрак сам по себе не имеет ни очертаний, ни структуры: он получает их лишь от костров и вокруг них. В тёмных промежутках, где мрак становится густым, неопределимым и бесформенным, единственный способ придать ему форму или структуру — это зажечь в нем новые костры или увеличить яркость ближайших из тех, что уже существуют. Только сложность и полнокровие использования наделяют участки города структурой и очертаниями. Кевин Линч в книге «Образ города» пишет о феномене «потерянных» территорий — мест, которым опрошенные им горожане не уделяли ровно никакого внимания и которые без напоминаний фактически не существовали в их сознании, хотя, казалось бы, эти «потерянные» места отнюдь не заслуживали подобного забвения и порой участники опроса только что побывали в них реально или в воображении[62].