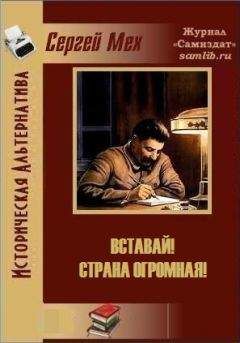профукал возможность сделать ей операцию, теперь она никогда не встанет на ноги. Никогда, — она снова покачала головой.
Больше всего на свете я не любил слово "никогда”. Оно означало точку невозврата. Это зловредное словцо говорило, что больше не будет, как раньше. Зубная паста вновь не окажется в тюбике, а разбитая ваза не порадует глаз. Все. Действие совершено, получите результат. Мать калека, я — лопух. Старуха не будет ходить, у меня никогда не будет денег, потому что меня развели, обманули и отобрали то, что принадлежало мне. Я злился.
— Завтра она вернется домой. Лежачей. Ее привезут к подъезду, а поднимать в квартиру, как ты понимаешь, никто не будет. Тебе, Антоша, придется тащить ее на четвертый этаж. По этим узких пролетам, между неудобных перил. Да, Антоша, ты доигрался! Теперь твоя матушка станет твоим крестом. Будешь нести его и жалеть, что не позаботился о последствиях раньше, а ведь мог отделаться лишь неприятным испугом. Сергей Валерьевич, вон, денег бы одолжил или кто-то из старых работодателей. Была возможность поставить ее на ноги, но ты все испортил. Ой-ей-ей, как жаль. Как жаль. Так все испортил на ровном месте. Я же тебе звонила, и мать звонила. Ну что ты за пень. А?
Моя голова повисла еще ниже. Я чувствовал, как меня покидают последние силы. У меня возникло желание пойти в свою кровать, лечь и закрыть глаза. Я стремился сбежать из этой паршивой и мерзкой действительности. Из этого ужасного мирка, который походил на зону военных действий. Разве я мог сопротивляться такому напору со всех сторон? Где бы я ни оказывался, меня лупасили плетями обидных слов и унижали, повторяя изо дня в день, что я ничтожество. Я все делал не так, я был не тем человеком, который достоин жизни. Я был мусорным ведром, куда с радостью могли выбросить свои нечистоты. Я ощущал себя болванчиком, висящим на последней струне. Все, что вызывало во мне хоть какой-то интерес к существованию, покинуло меня. Мне было абсолютно все равно.
— Срать, — ответил я.
— Етить-колотить, что значит срать? Антоша, так нельзя! Нельзя так говорить. Ты не прав, ты очень не прав, — Тамара Тимофеевна заводилась и потихоньку переходила на крик.
Привычная реакция. Я на другое и не рассчитывал, а может даже и желал, чтобы эта клуша раскрыла свою варежку и выдала все, что она там думает. Так быстрей закончится этот цирк.
— Срать мне на все! — повторил я.
— Какой же ты урод! — крикнула она. — Таким людям, как ты, не место на Земле, ничтожество, — тараторила соседка. — Как таких земля носит. О-у-у-у, ты попадешь в ад, будешь гореть в аду. Ты проклятый. Проклятый, Антон. Ужас! Ему срать! Люди, что творится, вы посмотрите! Ему срать! Ой-ей-ей! Мать лежачая, а ему срать. Так он еще этого добился. Даже пальцем не пошевелил, чтобы что-то изменить. Урод! Изверг!
Я развернулся и, не закрывая дверь, побрел в свою комнату. Тамара Тимофеевна кричала мне в спину. Мне представлялось, что она кидает в меня тухлые яйца, так ее слова бились о мое тело. Последняя ниточка моего самообладания рвалась, и я вот-вот должен был провалиться в яму абсолютного безразличия. Наверное, нет ничего хуже безразличия. Когда уже и бороться незачем и делать что-либо тоже. Это последняя инстанция любого сломленного человека. Я шаркал в свои покои и думал, как так вышло, что во мне уничтожили любую страсть к существованию. Катя была последним островком надежды. Она дарила мне мечту близости и смысла. Я предпочитал видеть ее своей путеводной звездой, маяком. Я обманывался и желал добраться до своего последнего бастиона. Но все оказалось тщетно, я очередной раз облажался. Все мои сны — самообман. Вся моя жизнь — ярмарка вранья. Я смотрел вокруг себя и понимал, что это сплошная голограмма. Иллюзия, которую я выстроил для того, чтобы спастись от невыносимого отчаяния. Я жил в жалком коконе и боялся вытащить голову наружу, потому что там — невыносимая боль от понимания, что я никому не нужен. Я жалкий кусок мяса без каких-либо устремлений. Я все это время укутывал себя в одеяло своих фантазий и ссал, в прямом и переносном смысле, посмотреть на мир трезвым взглядом. Я жалкий таракан. И мне было стыдно за то, что я такой. Я злился на себя, и рука снова потянулась ко лбу.
— Завтра, Антоша, завтра твоя мать будет здесь, — соседка зашла вслед за мной в квартиру, — она будет лежать на этом диване и просить у тебя воды да еды. А потом она попросит искупать ее, и так по кругу. Будешь устраивать тут танцы, и все из-за того, что ты ничего не сделал, чтобы спасти ее, ничего. Сколько я к тебе стучалась, сколько я тебе звонила и просила тебя одуматься? И что ты сделал? Ничего! Вот теперь ты заживешь. За что боролись, на то и напоролись!
Похоже, для Тамары Тимофеевны наступила минута возмездия. Наконец-то она могла сказать волшбеную фразу: "Я же говорила”. Эта фраза — настоящий наркотик для таких, как она и моя мать. Для них не существовало ничего более приятного, чем произносить ее и тешить себя своей мудростью.
— Вы меня не понимаете? Вы не слышали, что я вам сказал? — я встал во весь рост.
Я больше мог терпеть жужжание этой овцы. Я рассвирепел и расправил плечи.
— Выйдите из моей квартиры или я вас выкину отсюда за шкирку.
Женщина пошатнулась от моих твердых слов. Я впервые в жизни дал себе возможность выкрикнуть то, что так давно хотел. Мой крик напоминал львиный рык, а глаза Тамары Тимофеевны — взгляд испуганного опоссума.
— Так ты, значит? — тихо произнесла она.
Женщина не желала отступать и уже страшно меня боялась.
— Вам нужно повторить еще раз, чтобы вы все оставили меня в покое? Вы, мать! Все! Оставьте меня в покое! — меня ударил озноб. — Не надо меня учить жизни! Незачем мне втирать, как я буду дальше жить. Я уйду из этого чертового дома, вот и весь разговор. Пусть мать тут сама кантуется, как хочет. Ползает на руках по всей квартире, как чертов жук. Мне срать. И на вас мне срать. Возомнили себя святошей… да вы ужасный человек! Только ходите и ворчите с утра до вечера. Вас весь дом почему боится? Да никто не хочет трогать кусок говна, чтобы не провоняться. Пошла вон. Вон из моего дома. Сами с усами. Не маленькие, разберемся.
Моя грудь ходила ходуном от частного дыхания.