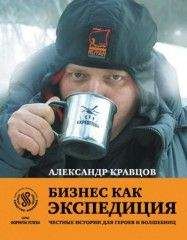Крик поморника
Это было в 1984 году. Шли выпускные экзамены в школе, и я сдавал их в перерывах между охотой: если я получал на экзамене пятерку, мы с отцом уезжали в тундру и возвращались утром перед следующим экзаменом. Такая у нас была договоренность. И вот за два дня до последнего экзамена мы, будучи на охоте, вышли из лодки и построили скрадок на снеговине. Прошло несколько часов, отец пошел спать, а я стал свидетелем очень странного поведения птицы: чайка-поморник зависла прямо над моей головой и стала истошно кричать. Она висела долго, а потом села неподалеку на снег да так и осталась около скрадка до утра…
Когда мы вернулись в город, я рассказал об этом отцу, а он — ханту Гене Кольчину, с которым вместе работал в Клубе юных моряков. Тот посетовал, что мы ее не застрелили, поскольку такое поведение птицы — верная примета смерти.
Но я тогда не задумывался над приметами.
Мы вновь поехали на охоту, и когда должны были возвращаться в город, начался ураган. Мы пытались его переждать, но отец забеспокоился, что я не успею на экзамен, и решил переправляться через Обь, несмотря на непогоду. На расстоянии первых двухсот метров от берега, когда мы поняли, что рискуем, у нас еще была возможность вернуться, но тут, как назло, с носа лодки смыло якорь на веревке. Когда якорь подняли, встречать волну уже можно было только носом к ветру. В итоге нам ничего не оставалось, как переваливать через Обь. Где-то минут через двадцать мы поняли, что нам не выбраться из этой пучины, потому что волны были не просто большие, а гигантские. И наш опыт нахождения на воде не имел в той ситуации никакого значения. В том месте, где мы перебирались, ширина Нарангасской Оби в паводок была около четырех километров, и переваливать ее нужно было очень аккуратно, под маленьким углом к волне, которая идет на лодку, иначе ее просто перевернет.
Где-то на середине реки я вдруг начал молиться, чего до этого никогда не делал. На мне и креста тогда не было, я крестился намного позже. И когда до берега оставалось метров 300–400, я попытался вырвать у отца руль, чтобы направить лодку перпендикулярно берегу: если мы перевернемся, будет шанс доплыть. Но отец не среагировал, напротив, сжал руль еще сильнее… Когда мы, чудом спасшиеся, все-таки причалили к берегу, я выпрыгнул из лодки, упал на снег и стал кататься и визжать, как щенок.
По возвращении в город мы еще больше уверовали в наше непростое спасение: оказалось, что из-за силы ветра в тот день по Оби не ходили даже корабли.
Глава 3
Адекватность российской действительности
Как в жизни и как по уставу
Сдав экзамен и закончив школу, я легко поступил в Московскую академию нефти и газа имени Губкина. И после второго курса сам пошел в армию.
В учебке больше всего меня удивило то, как менялись в казенных условиях студенты столичных вузов. Здоровые и благополучные, они быстро теряли человеческий облик, начинали воровать друг у друга. Когда батарее или роте, к примеру, давалась команда зайти в столовую, где на длинных столах стояли общие тарелки с хлебом, мясом, сахаром, то народ вбегал и начинал подобно животным растаскивать еду с этих общих тарелок. Были, разумеется, и те, кому это не нравилось. В общем, нам пришлось объединиться — занимать один стол и обедать спокойно: за нашим столом никто ничего не хватал. Так что в разных условиях можно вести себя по-разному. На мой взгляд, способность к выживанию, да и вообще способность к самой жизни, очень тесно связана с адекватностью. От того, насколько верно и быстро ты умеешь ориентироваться в ситуации, может зависеть не только успех, но и твоя жизнь.
Самое позитивное, что смогла мне дать наша армия, — научила быть адекватным российской действительности. Потому что исполнение устава в армии и следование закону в нашем государстве — процессы идентичные. Все мы знаем: закон — это данность, с которой необходимо считаться. Законы нужно соблюдать. И все мы также знаем, как обстоят у нас дела с соблюдением законов на самом деле.
Оказавшись в армии, ты сразу видишь схожую картину: устав — это одна история, а жизнь — совсем другая. Поэтому, если вдруг после армии ты начинаешь заниматься бизнесом, тебе становится понятно, что официальная бухгалтерия — это одно, а реальные вопросы бизнеса — другое. И попытки увязать их вместе так же бессмысленны, как попытки в армии жить по уставу. Не знаю, как в другой, но в российской это невозможно никому — ни солдатам, ни офицерам. И тем не менее устав нужен. Например, в уставе гарнизонной караульной службы написано о поведении в карауле — следование этому документу может спасти человеческую жизнь.
Самым серьезным впечатлением за все 730 дней в сапогах для меня стало самоубийство молодого солдата моего призыва, который вместе со мной попал из учебки в войсковую часть. Оно стало результатом дедовщины, и поэтому, когда я сам стал учить молодых, то пытался использовать только человечные методики. Да и ситуация позволяла: у моего товарища Паши Баранова, родом из Люберец, обучение бойцов велось по-другому. И, конечно, молодые старались попасть ко мне. Я говорил бойцу: «Вот тебе 15 кодов, к утру ты должен их знать». Если он не выучивал в первый раз, то отжимался, а если во второй — то попадал в расчет к Паше Баранову. Это нормально. Если ты старший радиорасчета, у тебя пять радиосетей и соответственно 5 радиотелеграфистов, ты должен отвечать за то, что они примут радиограммы.
Я довольно быстро стал старшим расчета, и мое спокойное существование отчасти зависело от прапорщиков, администрирующих всю связь. Варенье, вино из собранных в соседнем лесу ягод, дембельские альбомы — все это было запрещено, поэтому, естественно, мы искали места, где это хранить. Практически все офицеры и прапорщики смотрели на нашу деятельность сквозь пальцы, им было важно, чтобы мы не спали по ночам и правильно принимали радиограммы. Но был один очень вредный прапорщик Любарец, который все время пытался сделать какую-то гадость. То банку варенья найдет и разобьет об пол, то фотографии с письмами отыщет и порвет их. Нам это все изрядно надоедало, и поскольку Любарец отвечал у нас за состояние техники, мы периодически выводили эту технику из строя: выкручивали из радиоприемника хороший предохранитель, ставили перегоревший и докладывали командиру, что аппаратура сломалась. Командир по селектору спрашивал: «Кто отвечает за технику?» Мы, естественно, отвечали: «Прапорщик Любарец!»
А жили офицеры и прапорщики в четырех километрах от части, через лес. И вот Любарец бежал лесом, ночью, по тревоге, исправлять технику, прибегал и… видел наши улыбающиеся физиономии.