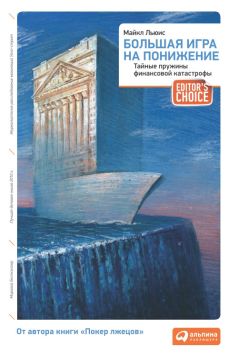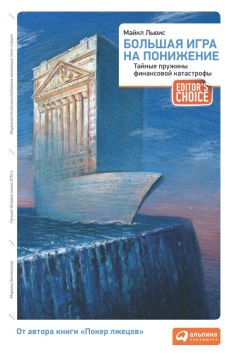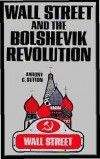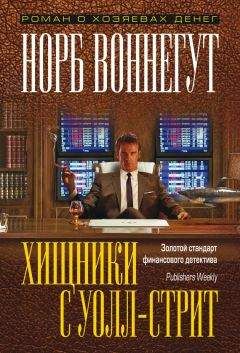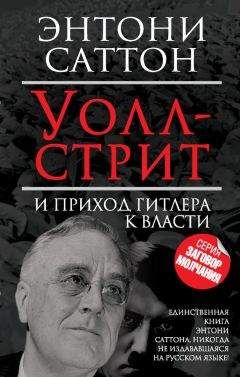Но эти изменения были прикрытием. Они лишь отвлекали внимание сторонних наблюдателей от истинной проблемы — растущей пропасти между интересами людей, торговавших финансовыми рисками, и интересами остальной части общества. По поверхности омута пробежала легкая зыбь, однако в глубине он остался непотревоженным.
Причина такой косности американской финансовой культуры — причина, по которой политики так медлили с переменами даже после ипотечной катастрофы, — заключалась в том, что она формировалась очень долго и ее аксиомы слишком глубоко укоренились. В чреве лопнувшего монстра оказалась пуповина, уходившая в 1980-е годы. Причины кризиса 2008 года крылись не только в низкокачественных кредитах, выданных в 2005 году, но и в идеях, зародившихся еще в 1985-м. В 1986 году, через год после начала работы в Salomon Brothers, мой приятель создал первый ипотечный производный инструмент. («Деривативы — как пистолеты, — повторяет он до сих пор. — Проблема не в них, а в том, в чьих руках они находятся».) Мезонинные CDO были придуманы отделом бросовых облигаций Майкла Милкена в Drexel Burnham в 1987 году. Первые CDO, обеспеченные ипотечными кредитами, появились на свет в Credit Suisse в 2000 году благодаря трейдеру, профессиональное становление которого в 1980-х и начале 1990-х годов проходило в ипотечном отделе Salomon Brothers. Звали его Энди Стоун, и помимо интеллектуальной связи с кризисом низкокачественных ценных бумаг он имел к нему и личное отношение: Стоун был первым начальником Грега Липпманна на Уолл-стрит.
Я не видел Гутфройнда с тех пор, как покинул Уолл-стрит, а до того всего пару раз сталкивался с ним в торговом зале. За несколько месяцев до моего увольнения начальство попросило меня объяснить генеральному директору суть экзотических тогда сделок с деривативами, которые я заключил с одним европейским хедж-фондом. Я попытался. Гутфройнд сразу заявил, что ничего не смыслит во всех этих тонкостях, из чего я сделал вывод: именно так, демонстрируя пренебрежение к деталям, генеральный директор с Уолл-стрит доказывает свое высокое положение. Ему не было резона помнить об этих встречах, и они моментально выветрились у него из головы: после выхода моей книги, когда его стали доставать журналисты, он сказал, что не знаком со мной. В течение последующих лет до меня доходили какие-то обрывочные сведения о нем. Я знал, что после вынужденного ухода из Salomon Brothers ему пришлось несладко. Слышал, что за несколько лет до нашего совместного завтрака он выступал с докладом об Уолл-стрит в Школе бизнеса Колумбийского университета. Когда подошел его черед выступать, он посоветовал студентам найти более полезное занятие, нежели работа на Уолл-стрит. А начав рассказывать о собственной карьере, не выдержал и прослезился.
Когда я отправил Гутфройнду электронное письмо с предложением позавтракать, то получил в ответ предельно вежливое и любезное согласие. С таким же достоинством он прошествовал к столику, поболтал с владельцем ресторана и сделал заказ. Его движения стали более размеренными и неторопливыми, но в остальном он совершенно не изменился. Внешняя учтивость все так же скрывала страстное желание видеть мир таким, какой он есть, а не таким, каким должен быть.
Первые 20 минут мы свыкались с мыслью о том, что наше присутствие за одним столиком не повлечет за собой вселенской катастрофы. У нас нашелся общий знакомый. Мы оба признали, что генеральный директор с Уолл-стрит физически не мог уследить за всеми безумными нововведениями, появляющимися в фирме. («Я понимал до конца не все продукты, но и остальные были не лучше».) Мы также согласились с тем, что у генерального директора инвестиционного банка с Уолл-стрит было страшно мало возможностей контроля за подчиненными. («Они сначала подлизываются к тебе, а потом творят, что хотят».) По мнению Гутфройнда, причина финансового кризиса была проста: «Жадность инвесторов и жадность банкиров». На мой взгляд, она коренилась гораздо глубже. Жадность всегда была неотделимой от Уолл-стрит, став практически ее обязательной чертой. Проблема заключалась в системе стимулов, призванной обуздывать эту жадность.
Грань между спекуляцией и инвестированием тонка и условна. Даже самая разумная инвестиция несет отпечаток ставки в игре (вы теряете все свои деньги в надежде немного заработать), а самая безумная спекуляция имеет инвестиционный потенциал (вы можете вернуть свои деньги с процентами). Пожалуй, наилучшее определение «инвестирования» выглядит так: «спекуляция с шансами в твою пользу». Люди на короткой стороне рынка низкокачественных ипотечных кредитов ставили на шанс в свою пользу. Люди на другой стороне, т. е. вся финансовая система, ставили на шанс против себя. До настоящего момента история о большой игре на понижение была проще пареной репы. Единственная странность в ней заключалась в том, что почти все значимые игроки с обеих сторон покинули стол богатыми. Стив Айсман, Майкл Бэрри и молодые основатели Cornwall Capital заработали десятки миллионов долларов. В 2007 году Грегу Липпманну заплатили $47 млн, (правда, $24 млн из них в виде акций с ограничениями), и получить их он мог, только отработав в Deutsche Bank еще несколько лет. Но все эти люди оказались в итоге в выигрыше. Бизнес Вина Чау по управлению CDO прекратил существование, но сам Чау положил в карман десятки миллионов долларов — да еще нахально пытался по дешевке скупать те самые низкокачественные ипотечные облигации, на которых потерял чужие миллиарды долларов. Хауи Хаблер потерял больше денег, чем любой другой трейдер за всю историю Уолл-стрит, тем не менее ему позволили оставить себе несколько десятков миллионов. Генеральные директора крупных фирм с Уоллстрит все как один сделали неверные ставки. Все они, без исключений, либо привели свои компании к банкротству, либо были спасены от банкротства правительством Соединенных Штатов. Но при этом никто из них не остался внакладе.
Какова вероятность принятия разумных решений людьми, которым нет нужды принимать разумные решения — если они могут разбогатеть и без них? Все без исключения стимулы на Уолл-стрит были неправильными, и они остаются такими до сих пор. Но я не стал спорить с Джоном Гутфройндом. Подобно тому как ты превращаешься в девятилетнего ребенка, приезжая в родительский дом, в присутствии бывшего начальника ты превращаешься в подчиненного. Джон Гутфройнд все еще считался «королем Уолл-стрит», а я — пустым местом. Он изрекал истины, я же только задавал вопросы. Пока он говорил, его руки как магнит притягивали мой взгляд. Угрожающе огромные руки. Это были не руки изнеженного банкира с Уоллстрит, а руки боксера. Я поднял глаза. Боксер улыбнулся, хотя улыбка вышла натянутой. И нарочито медленно произнес: «Твоя. гребаная. книга».
Я улыбнулся в ответ, хотя получившаяся гримаса мало напоминала улыбку.
«Зачем ты пригласил меня на ланч?» — спросил он совершенно искренне и предельно вежливо.
Сложно сказать человеку прямо, что ты не считаешь его воплощением зла. Не легче признаться, что, по твоему мнению, именно его решение привело к величайшему финансовому кризису в истории человечества. Джон Гутфройнд изменил уклад Уолл-стрит (заслужив при этом звание короля), когда в 1981 году превратил Salomon Brothers из частного товарищества в первую на Уолл-стрит публичную компанию. Он пошел против воли оставшихся не у дел партнеров Salomon. («Мне претила его меркантильность», — признался мне Уильям Саломон, сын одного из основателей Salomon Brothers, который назначил Гутфройнда генеральным директором, взяв обещание никогда не продавать фирму.) Плевать он хотел с высокой колокольни на неодобрительные отзывы со стороны других генеральных директоров с Уолл-стрит. И не стал упускать подвернувшуюся возможность. Вместе с другими партнерами он не только заработал кучу денег, но и переложил конечный финансовый риск на плечи акционеров. Это не имело большого смысла для акционеров компании. (Одна акция Salomon Brothers, купленная в 1986 году, когда я впервые попал в торговый зал, по текущей рыночной цене $42, сегодня была бы эквивалентна 2,26 акциям Citigroup, чья суммарная рыночная стоимость в первый торговый день 2010 года составляла $7,48.) Однако для трейдеров по облигациям в этом был глубочайший смысл.
С того момента фирма с Уолл-стрит превратилась в черный ящик. Акционеры, которые финансировали принятие риска, понятия не имели, что делали те, кто принимает риск. Чем запутаннее становились операции, тем меньше в них разбирались акционеры. Было ясно лишь одно: прибыли, полученные в результате сложных ставок, превосходили все возможные прибыли от обслуживания клиентов и предоставления капитала результативным компаниям. Клиенты, как ни странно, стали неинтересными. (Стоит ли удивляться тому, что на рынке облигаций недоверие достигло точки, за которой покупатели уже не верили в схемы быстрого обогащения, предлагаемые продавцом Грегом Липпманном?) В конце 1980-х и начале 1990-х годов в Salomon Brothers всего пять трейдеров, интеллектуальных прародителей Хауи Хаблера, приносили больше, чем годовая прибыль по всем остальным видам деятельности. Иными словами, 10 000 других сотрудников, как группа, теряли деньги.