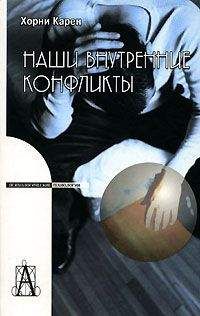Больные, прошедшие курс первичной терапии, перестают испытывать гнев, потому что, как я считаю, гнев — это пере
вернутая надежда. Надежда, заключающаяся в гневе такого рода, питает иллюзию, что гневом можно превратить родителей в приличных любящих своего ребенка людей. Например, когда я работал обычным психотерапевтом, больные, уходившие от меня, закончив курс лечения, питали фантазии о том, что встретятся со своими родителями и выплеснут на них все то зло, какое они причинили своему ребенку. Но в основе этой конфронтации лежит все та же надежда, что родители, увидев и поняв, какими ужасными и отвратительными они были, станут новыми, любящими людьми.
Если у больных, проходящих первичную терапию, остается гнев, я считаю это признаком упорного невроза. Во–первых, потому, что этот гнев есть симптом нереальной надежды. Во- вторых, потому что этот гнев означает, что маленький ребенок все еще испытывает свои детские желания и не может разорвать пуповину, связывающую его с родителями. Здесь нет места взрослому гневу, если больной действительно стал, наконец, реальным взрослым человеком; и происходит это по той же самой причине, по какой ни один взрослый человек не будет испытывать злобы на невротические причуды знакомых ему людей. Такой человек будет взрослым, объективно смотрящим на невроз своих родителей. (Объективность есть отсутствие подсознательного чувства, заставляющего больного отгонять реальность, чтобы не ощущать боль и избавиться от необходимости удовлетворения основных потребностей.) Для взрослого человека его родители станут просто двумя другими взрослыми, страдающими неврозом, людьми. Гнев на родителей возникает только в том случае, когда личность хочет, чтобы родители изменились и начали удовлетворять его потребности. Когда же потребность прочувствована и изжита, то вместе с ней изживается и уходит гнев.
Для пациентов, проходящих первичную терапию, характерно глубокое чувство трагедии расставания с детством. В то же время пациент испытывает огромное облегчение от того, что закончилась, наконец, изнурительная пожизненная борьба. Такие излеченные пациенты не стремятся к мести за причиненное в прошлом зло; теперь их больше интересует жизнь, которую они ведут в настоящем.
Ревность
Ревность — это один из многочисленных ликов гнева. Ревность, точно также, вызывается ощущением отсутствия родительской любви. Так как ребенок не может направить свою враждебность непосредственно на родителей, то он обходным путем изливает ее на братьев и сестер. Но обычно ребенок не испытывает действительной неприязни к братьям или сестрам; они всего лишь символы, искусственный фокус, на который направлена ненависть.
Почему ребенок становится злым и ревнивым? Возможно, потому что уже в самом начале жизни родители внушают детям идею, что любовь — это нечто, имеющее определенное количество, а, значит, любовь может исчерпаться и закончиться. Родители говорят: «Посмотри на своего брата. Его тарелка уже чистая (эта добродетель никак не дается провинившемуся ребенку). Значит, он получит самый большой кусок пирога». Или: «Посмотри на свою сестру. Она прибралась у себя в комнате, а теперь пойдет в кино». Так как ребенок видит, что любовь выдается, когда он «хороший», а не плохой, то он решает, что она есть нечто вроде подарка. Ревность возникает, когда ребенок чувствует, что не получает свою долю. При этом молчаливо допускается, что любовь имеет доли. Такое допущение возникает в невротической атмосфере, когда родители не свободно дают, а распределяют любовь на определенных «условиях». Таким образом, ребенку приходится бороться за свою долю во всем, включая любовь. Они работают локтями, как женщины на распродажах. Ребенок начинает злиться на других, как на людей, претендующих на его законную часть.
Если ребенка любят по–настоящему, то у него не возникает ревность. На мой взгляд дети, по–природе своей не ревнивы, точно также, как они не злы. Ревность, как правило, вымещается на братьях и сестрах, но на самом деле объект — родители; ведь именно они требуют, ругают и чего‑то не дают. Это родители бывают по–детски раздражительны и нетерпеливы; это родители выказывают предпочтение одному ребенку за счет другого. Глядя на своих детей невротические родители видят воплощение своих надежд: образ того, в чем они нуждаются
(уважение, лесть, внимание). Они строят отношения с символами, а не со своими реальными детьми. То, что в таком доме считают любовью, получает ребенок, более всего соответствующий требуемому образу, то есть, ребенок, становящийся невротиком, а не личностью, способной выразить свои собственные чувства. Именно у любимого ребенка, как правило, целиком и полностью разрушается личность, но зато он чаще всего неплохо приспосабливается к жизни, став взрослым. Мятежник, не желающий подчиниться, наоборот не умеет приспосабливаться, но зато имеет шанс сохранить свое собственное «я» и стать настоящим человеком, в отличие от сибсов–приспособ- ленцев.
Несчастного любимчика часто бьют его не столь горячо любимые братья и сестры, и всю свою юность любимый ребенок расплачивается за преступление, совершаемое родителями. Он делается таким, каким хотят его родители, но за это сестра или брат постоянно третируют и уязвляют его. В каком‑то смысле эта ревность есть способ, каким нелюбимый ребенок стремится получить свою долю «любви». Если он сможет уничтожить и устранить любимого родителями брата, если он наябедничает на него, то, возможно, получит от родителей чуть больше ласки.
Детская ревность («я хочу получить свою долю») сохраняется и во взрослой жизни. Ревнивый ребенок, которого игнорируют родители, стремится завести своих детей, которых он будет притеснять и наказывать, когда они станут требовать внимания от их матери. Его дети будут платить за попытки отвлечь внимание и любовь матери от него, ее супруга и их отца. Я утверждаю, что такое ревнивое поведение будет продолжаться до тех пор, пока этот человек не отыщет верный контекст своего гнева и полностью его не прочувствует. После этого его собственные дети перестанут страдать оттого небрежения, которому подвергался их отец. Очень часто из ревнивого ребенка вырастает склонный к конкуренции взрослый, который хочет иметь больше, чем кто- либо другой, который не видит недостатков своего ребенка, так как тот должен, обязан быть «самым лучшим».
Маленький ребенок страдает не только от отсутствия любви, его подавляет невозможность одарить любовью родителей.
«Если бы они только знали, как много я могу им дать, — стонал один из моих пациентов. — Но я всю свою любовь отдавал собаке». Кроме того, ребенок испытывает горечь оттого, что не может даже попросить о любви, в которой он так сильно нуждается. «Потребность в любви считалась преступлением в моем доме, — говорил один пациент. — Я чувствовал, что попробуй я сказать: «Папочка, возьми меня на руки», он высмеял бы меня за такие телячьи нежности».
Тем, кто верит в то, что ревность и враждебность являются естественными, свойственными человеку инстинктами, я отвечу, что в снах (также как и в дневном поведении) больных, прошедших курс первичной терапии, нет ни злобы, ни ревности. Это важно, потому что если днем, во время бодрствования, они могут сознательно контролировать свое поведение, то гнев и ревность могут проявляться во сне, когда сознательный контроль ослаблен или отсутствует. Очевидно таким образом, что в сознании этих людей гнев отсутствует. Это позволяет предположить, что концепция инстинктивного пула агрессии ошибочна; если у человека и есть какой‑то инстинкт, то это инстинктивное стремление быть любимым, то есть, быть самим собой.
Страх
Когда моему сыну было десять лет, у него внезапно появи — лись ночные страхи, и я не мог понять, почему. Он страшно боялся какого‑то человека в чулане. Страх преследовал его целый месяц, и я решился выяснить его первопричину. Однажды вечером, когда он лег спать и попросил меня оставить включенными радио и свет, я погрузил его в первичное состояние. Я заставил его окунуться в это пугающее чувство, чтобы оно целиком его захлестнуло. Мальчик стал дрожать, голос его сделался пронзительным и испуганным. Он все время повторял: «Я не хочу папа, это очень страшно!» Я настаивал. Когда он полностью отдался своему страху, я заставил его выкрикнуть чувство. Но он твердил свое: «Я не могу, не могу». Я продолжал настаивать. Наконец, он заговорил. «Этого не выскажешь ело–вами, папа. Мама держит меня в пеленках и старается придавить». Он чувствовал, что его давят и, кроме того, ощущал свою полную беспомощность. Сын сказал: «Знаешь, я никогда не чувствовал, что этот человек в чулане застрелит меня из пистолета или зарежет ножом; я чувствовал, что он схватит и задушит меня». Что послужило пусковым моментом этого страха? Однажды вечером, как раз накануне того дня, когда появился страх, мы боролись с сыном. Я схватил его за плечи и придавил к полу. Мне казалось, что в этом не было ничего травмирующего, и мы оба забыли об этом, но сын, перейдя в первичное состояние, вспомнил тот эпизод. Более того, память привела его в то время, когда ему было всего восемь месяцев. Он отчетливо вспомнил цвет и форму своей кроватки. После купания он пытался уползти от моей жены, когда она пыталась надеть на него подгузник. Отчаявшись, она рассердилась и сильно прижала его к кроватке. Это переживание сильно напугало ребенка.