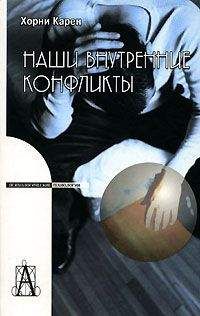родителей полюбить меня. Я училась превосходно, все время получая высшие баллы. Я занимала в школе высокие общественные должности, получала поощрения. Я надеялась завоевать благосклонность родителей, показав им, как меня ценят другие.
Помимо того, что интеллектуальность была средством, с помощью которого я надеялась стать настолько особенной, чтобы заслужить любовь родителей, она же помогала мне держать на почтительном расстоянии мою первичную боль. Еще будучи ребенком, я, когда у меня портилось настроение, хватала первую попавшуюся книгу и с головой погружалась в нее. Читая, я чувствовала свою боль, когда плакала, переживая что‑то очень плохое или очень хорошее вместе с героем, с которым я себя в тот момент отождествляла. В колледже я принялась жадно изучать интеллектуальную историю Европы, в особенности германскую историю. Мои родители всегда ненавидели Германию — мне кажется, что эта ненависть была слепой и ничем не обусловленной. Это было понятно, ведь они не любили меня тоже без всякой видимой причины. Я хотела понять, почему с Германией случилось что‑то неправильное. Может быть, если я разберусь в этом, то мне удастся понять, что такого я сделала, что потеряла право на любовь родителей. Германия, все внутреннее устройство которой всегда переживало смятение и анархию, попыталась обрести силу и влияние за пределами своих границ. Я, испытывая растерянность, смятение, и не чувствуя первичную боль, всегда старалась утвердиться в глазах любого человека, который будет слушать меня и восхищаться моим умом.
Когдая поступила в последний класс школы, иллюзия, что школьные успехи позволят мне завоевать родителей, потерпела полный крах. Более того, школа наскучила мне, и я, перестав соблюдать дисциплину, стала хуже учиться. В то время мне понадобилась новая система для защиты от подступавшей первичной боли. Эту защиту я нашла в наркотиках. Учась в колледже, я несколько лет курила марихуану. Я открыла, что как бы плохо я себя ни чувствовала, курение травки улучшает мое душевное состояние. Кроме того, я с удовольствием начала баловаться кислотой. Иногда во время кислотных путешествий я
видела ту несчастную сцену из моего детства. Но если не считать этого видения, то путешествия были необыкновенно приятными. Я галлюцинировала и однажды едва полностью не утратила собственное «я». Потеря собственного «я» — это, в конечном счете, потеря способности понимать, кто ты такой. Так как я полностью отрицала свою первичную боль, то потеря «это» была реальным симптомом моей болезни. Галлюцинации и потеря чувства собственного «я» остались в прошлом после того, как я прошла лечение, прочувствовала первичную боль и отказалась от борьбы за любовь родителей.
Когда я уехала в Нью–Йорк заканчивать образование, кислота и трава перестали мне помогать, потребовалась более изощренная защита от первичной боли. В то время у меня часто бывали приступы необъяснимых и, по видимости, беспричинных приступов плача. Мне пришлось найти способ утолять боль и смягчить чувство одиночества и отчаяния, которые я испытывала в Нью–Йорке. Чтобы взбодриться, я начала принимать метедрин и колоть героин, чтобы лучше спать. Но даже этих средств оказалось недостаточно. На меня неумолимо надвигался физический и нервный срыв.
Я уехала из Нью–Йорка и окончательно скисла. Спустя два месяца я начала проходить первичную терапию. Я сделала это, потому что все мои защитные системы дали трещину и я была на грани полной потери контроля над собой. Разум перестал помогать. Я не могла понять, почему даже после того, как я тщательно проанализировала свое состояние, у меня все равно все было плохо. На сеансах первичной терапии меня научили, что чувство отсутствия любви со стороны родителей не было разрешено, что невозможно оборвать цикл чередования срывов и улучшений, применяя все новые и новые средства психологической защиты с целью прикрыть потребность, так как этим путем я постоянно бежала от своей боли, вместо того, чтобы прочувствовать ее.
Первым этапом лечения стало избавление от того, что осталось от и без того разрушенных систем психологической защиты. Одно только отсутствие сигарет и наркотиков довели напряжение до такой высокой точки, что весь мой организм был потрясен до основания. Хотя в этом городе я жила совсем
одна, прошло целых три недели полной изоляции, когда я, наконец, ощутила свое совершеннейшее одиночество. Я всегда думала, что одинока, потому что сама выбрала уединение, и если бы я захотела, то перестала бы быть одинокой. Только теперь мне стало ясно, что я была одинока всю жизнь, и все эти годы я хотела одного, принадлежать чему‑то (семье) или, точнее, кому- то (моим родителям). Я поняла, что когда я раньше оставалась одна, то всегда чувствовала, что кто‑то пристально наблюдает за всеми моими действиями и вторгается в мои мысли. Теперь я уверена, что это смутное чувство чьего‑то присутствия было символом надежды, что я небезразлична моим родителям. Теперь же я чувствую и, мало того, знаю, что я совершенно и абсолютно одинока.
Когда самые высокие и крепкие стены моей защиты были разобраны, мой ум буквально затопили воспоминания прошлого. Все они сильно печалили меня — грустны были даже самые счастливые воспоминания, из‑за того, что их было так мало, Я начала переживать сцены моего прошлого. Я переживала их, буквально перемещаясь в то время и снова чувствуя все, что происходило со мной в то время; и это, при том, что защиты уже не было, позволило мне полностью и свободно проявить и выразить обуревавшие меня чувства.
Почти все первичные сцены, которые я пережила в первые месяцы лечения, были связаны с ощущением холода. Стоило мне лечь на спину, как меня начинало трясти, зубы стучали, кисти и стопы синели. Я переживала первичные состояния длительностью до двух часов и все это время мое тело сотрясал неудержимый озноб. Сначала я думала, что мне холодно по какой‑то внешней причине: из‑за погоды, из‑за неприятных людей или от противных ощущений, которые могли заставить меня чувствовать холод. Потом я поняла, что холод (невроз) находится внутри — не на поверхности кожи, а внутри моего тела. Надо было удалить толстые слои льда, покрывавшие боль, причиненную не любившими меня родителями, и только после этого я смогла заново пережить болезненное чувство, которое прикрывали эти пласты льда.
Когда дрожь постепенно стала проходить, я стала совершенно беззащитной. Часто, видя своих родителей, я начинала пла
кать при малейших знаках неодобрения. Однажды я пошла в театр на чеховскую «Чайку». Во время сцены, в которой сын просит мать не покидать его, меня захлестнули чувства. Понимая, что в театре недопустимо первичное состояние, я постаралась стряхнуть с себя это ощущение, но потеряла сознание и меня вынесли из зала.
Как только эта глубинная боль высвободилась, ее уже невозможно было остановить. Запрет на выход этих чувств часто приводил к полному и совершенному замешательству и смятению. В моем случае это смятение выражалось в бессвязной речи и своего рода афазии. Однажды я разговаривала с пятью участниками нашей лечебной группы. Я не могла понять, что они говорили. Я понимала отдельные слова, но не могла сложить их в осмысленные фразы и предложения. Я сама едва могла говорить. У меня было чувство неполного присутствия; часть моего сознания витала где‑то в другом месте. Когда я пыталась что‑нибудь произнести, у меня получалась какая‑то словесная каша, лишенная какого бы то ни было смысла. Замешательство, возникшее от невозможности общения, отсекло меня от всех остальных людей, находившихся в помещении. То был символ моего одиночества. Поняв это, я перешла в первичное состояние, в котором горячо просила родителей не оставлять меня одну. После этого смятение немного улеглось.
В другой раз замешательство, возникшее на фоне нахлынувшего на меня чувства, привело к нарушению ориентации в пространстве. Мой друг сильно злился на меня, и, хотя наша встреча уже подходила к концу, он решил продемонстрировать мне свое недовольство. Я начала понимать, что неизбежное расставание и отвержение произойдет очень скоро. Я снова останусь совсем одна. Я стряхнула с себя это чувство и постаралась продолжать играть радушную хозяйку. Я повернулась и, вместо того, чтобы выйти в дверь, наткнулась на стену кухни, На лбу у меня вскочила большая шишка. Когда я же я дала волю своему чувству, когда ощутила полностью горечь оттого, что мой друг бросил меня, когда я смогла связать это чувство с другим чувством отверженности — со стороны отца, — только тогда нарушение ориентации начало проходить. Когда произошел окончательный разрыв, я перенесла его относительно безболезненно, так как это был разрыв всего–навсего с парнем, а не с отцом.
Настоящий прорыв произошел через пять месяцев после начала первичной психотерапии. Я сидела на групповом сеансе, и вдруг очертания всех предметов перед моими глазами расплылись, и мне показалось, что я сейчас отключусь. У меня всегда возникали такие ощущения перед наступление интенсивного первичного состояния. Потом я оказалась на кушетке, крича громче, чем обычно: «Мама, папа, возьмите меня домой. Ну, пожалуйста, я хочу домой. Мама, папа, я же люблю вас». Эти слова сопровождались пронзительными криками. В тот момент я не ошущала своего тела. Все мое существо превратилось в этот пронзительно кричавший голос. Я стала моей болью. Я выкрикивала то, что хотела сказать всю жизнь, с тех пор, как помню себя. Но я никогда не говорила этого родителям из страха, что в ответ они открыто отвергнут меня и мою любовь. Теперь же, когда защита упала, то слова сами слетали с моих губ. Я была совершенно беззащитна и впервые в жизни не контролировала свое поведение. Это был поворотный пункт психотерапии.